— Бланко, — обратилась я к нему, — я забыла заказать себе новые домашние туфли. Сбегай, пожалуйста, к сапожнику и скажи, что я решила остановиться на красной коже с шерстяной подкладкой. Ученик, который приносил образцы, поймет, что я имею в виду.
Его крупное черное лицо расплылось, как дыня, от радости в предвкушении тридцати минутной прогулки под сияющим солнцем. Мы с мальчиком вошли в солярий [2].
Побывав с тех пор в нескольких замках, я теперь понимаю — чего не понимала тогда, — что женщины Наваррского двора жили в обстановке почти восточной роскоши. Дед привез с собой с Востока не только болезнь, которая в конечном счете его же и убила, но и огромный обоз сокровищ, а также ряд представлений о комфорте. Наши полы устилали многочисленные темные шелковые ковры, всюду стояли диваны с мягкими подушками, голые каменные стены были увешаны богатыми портьерами, и у нас, пятерых женщин, появилось не меньше трех серебряных зеркал на каждую. Находившиеся в солярии женщины сидели точно в таких же позах, в которых я их оставила, уходя: Кэтрин, Мария и Пайла лениво вышивали каждая свою часть гобелена. Четвертый его угол, мой, они для удобства положили на табурет, и вся картина была хорошо видна. Войдя в комнату с радостным возгласом: «Смотрите, кого я привела, — это лютнист, он знает все самые лучшие песни!» — я бросила на гобелен привычный взгляд, чтобы узнать, насколько продвинулась их работа. Они всегда трудились над своими углами спустя рукава, и мне нравилось манкировать работой всю неделю, чтобы потом за пару часов энергично наверстать упущенное и сравняться с ними. Только дух соревнования и делал вышивание терпимым для меня делом. Я с удовлетворением убедилась в том, что за все утро они почти не сдвинулись с места.
Услышав мои слова, они подняли головы, а потом с умеренно восторженными возгласами принялись сворачивать работу. Блондель отвесил еще один из своих изысканных поклонов и освободил лютню от куска парусины. Он был совершенно спокоен. Я знаком велела ему подождать и поинтересовалась:
— А где принцесса?
— У себя, — ответила Пайла, по обыкновению кивнув в сторону двери в соседнюю комнату. — Наша болтовня ее утомила, у нее разболелась голова, и она пожелала побыть одна.
— Может быть, — добавила Мария, — ей вовсе не хочется слушать лютню. Мальчик должен играть очень тихо.
Кэтрин, которая меня очень не любила — между нами постоянно возникали трения, вплоть до обмена грубыми словами, — заметила:
— Не нашлось ничего лучше лютни!
Этой простой фразой она обвинила меня в бестактности. Ввиду отсутствия другой причины, которая могла бы объяснить упадок духа их хозяйки в последнее время, дамы из ее будуара поспешили с объяснением, сообразным с их собственным вкусом, воистину ужасным. По их мнению, она горевала по старому Коси, нашему покойному лютнисту. Однако я никогда не замечала, чтобы Беренгария выказывала признаки особого пристрастия к старику, как, впрочем, по-моему, и они сами, но его смерть случайно совпала с моментом, когда дела у нее пошли плохо. Я понимала, что смерть Коси, как, впрочем, и любого другого из приближенных ко двору, не могла причинить Беренгарии особой боли, однако поддерживала эту версию, потому что, довольствуясь ею, дамы не проявляли к ситуации более глубокого интереса, а тайны, при том образе жизни, который они вели, были товаром большой ценности, даже когда их покупали ценой обмана или вероломства.
Я проковыляла к промежуточной двери и, открыв ее, заглянула в слабо освещенное помещение, служившее передней, отделявшей солярий от спальни. Здесь было очень маленькое окно, а за ним поднималась мощная стена башни, и никогда не бывало достаточно светло, чтобы можно было что-то делать без свечей даже днем. В самую холодную погоду, когда в солярии стоял холод несмотря на пылавший в камине огонь, мы порой использовали эту комнатку как гостиную. Горящий камин и множество свечей делали ее уютной. Ярким же утром она была невыразимо мрачна.
Беренгария сидела на скамье, опершись локтями на колени, а подбородком на сплетенные кисти рук и уставившись на часть стены за окном. Она даже не повернула головы, когда я открыла дверь.
— Беренгария, — окликнула я сестру.
— О, ты вернулась, Анна? Что тебе?
— Выходи, послушай музыку. Утром я встретила на рынке мальчика, очень хорошо играющего на лютне, и упросила его пойти со мной.
— У меня болит голова, и я меньше всего расположена слушать музыку.
Моим естественным порывом было сказать: «Хорошо, не ходи», выйти и закрыть за собой дверь. Но моя новообрётенная жалость к ней была в то время еще свежа и очень активна, к тому же имелись и другие соображения. В небольшой, ограниченной общности людей меланхолия самого главного из ее членов не способствует веселому настроению у других, а в последнее время атмосфера в будуаре стала совершенно удручающей. И я сказала:
— Пойди послушай. Он очень хорошо играет, и все мы будем очень рады, если ты разделишь нашу компанию.
Беренгария нехотя поднялась и направилась в солярий. Я остановилась, чтобы закрыть дверь, а когда повернулась и окинула взглядом комнату, у меня возникло ощущение, словно там что-то произошло. Сделав несколько шагов по комнате и не спуская глаз с мальчика, Беренгария замерла. Прекрасные глаза по-прежнему ничего не выражали, но рот, порой выдававший ее чувства, был раскрыт. На лице мальчика, пристально смотревшего на нее от противоположной стены, было написано изумление и восхищение. В этом не было ничего удивительного — сестра моя была невероятно красива. Мы, разумеется, привыкли к ее неотразимой привлекательности, но всем, кто смотрел на нее впервые, приходилось отдавать ей дань трепетного благоговения, которое охватывает человека при виде вишни в полном цвету, освещенной ярким солнцем, или же одного из здешних знаменитых багряно-золотых закатов.
Напряжение разрядилось, когда Беренгария опустилась на диван. Я подала мальчику сигнал, и он взялся за лютню, но играл сквернее скверного, неуклюже перебирая струны и пропуская ноты, а мелодию выводил резким фальцетом. Кэтрин обменялась взглядом с Пайлой, опустила уголки рта, словно надкусив лимон, и состроила мне гримасу. С тех пор как Беренгария сделала меня своей доверенной и все чаще требовала к себе, в будуаре поселилась ревность. Кэтрин, наименее благожелательная из всех троих, выказывала свои чувства совершенно открыто, и ее гримаса была не менее резким комментарием по поводу отвратительного исполнения музыканта, чем высказанное ранее недовольство тем, что я его привела.
По окончании первой песни мне удалось поймать взгляд мальчика и послать ему ободряющую улыбку — всем своим существом я желала, чтобы он играл лучше. Он улыбнулся в ответ, но так, как улыбается человек, преодолевая физическую боль, отбросил назад волосы и затянул веселую песенку про даму из Шалона и ее рыжую курочку. На сей раз дело пошло лучше. А когда он заиграл «Смерть Хлорис», музыка и песня прозвучали почти так же хорошо, как и на рынке.
Когда звуки этой хватающей за сердце мелодии растаяли в воздухе, Кэтрин вызывающе спросила:
— Ты можешь сыграть что-нибудь из Абеляра?
В то время песни Абеляра были настолько широко известны и популярны, что их напевали поварята, поливая жиром мясо на шампурах, в такт им бегали с поручениями подмастерья, и вопрос Кэтрин, да еще высказанный с таким презрением, был умышленно оскорбительным.
Мальчик спокойно ответил:
— Да, миледи. И могу спеть песню, не так навязшую в зубах, как остальные. Хотите? — Он взглянул на струны, чуть отступив назад, а потом, раскованно и непринужденно облокотившись на спинку деревянной скамьи, запел:
Быть твоим слугой — это все, о чем я прошу,
Моя единственная радость — видеть тебя счастливой,
Единственная забота — исполнять твои желания.
Разве ты не знаешь, что твоя улыбка — мое полуденное солнце,
Что твой голос, даже сердитый, звучит для меня песней птицы,
Что твои глаза, даже опущенные долу, — мои солнце и луна?
Весь мир — ничто, будущее сурово и безотрадно;
Наша надежда хрупка, а радость под вечной угрозой.
Но как ты мне дорога, как дорога, как дорога!
Этой песней, положенной на очень волнующую музыку, он покорил дам и в их числе даже скептически настроенную Кэтрин. Когда стихли последние звуки, они разразились возгласами одобрения.
— Ты очень хорошо играешь, — проговорила Беренгария. — Спасибо. Тебе пора немного освежиться. — И она сделала знак Пайле, на которую, благодаря ее природной жадности и прошлому опыту ведения собственного дома, были возложены хозяйственные обязанности. Пайла засуетилась, а сестра позвала меня в свою комнату.
— Анна, где ты его нашла?
— На рынке.
— Я хочу, чтобы он остался у нас.
— Вместо Коси?
Она кивнула.
Для бродячего музыканта, вынужденного подчиняться скверному хозяину, превратиться в лютниста принцессы было, разумеется, совершенно фантастической удачей. Отныне у мальчика появились бы крыша над головой, каждый день завтрак, обед и ужин и тепло зимой. А вместо постоянно издевающегося хозяина — добрая и снисходительная хозяйка. Могла ли судьба быть более благосклонной?
Но я подумала о Коси, неуживчивом, сварливом и одновременно раболепном и подобострастном, с которым обращались благожелательно, но пренебрежительно, замечая едва ли больше, чем собаку или же обезьяну. Он постоянно играл перед одними и теми же слушательницами одни и те же мелодии, разбирал шелковые и шерстяные нитки для вышивания, безропотно сносил попреки раздраженных фрейлин, часто приходивших в плохое настроение, выслушивал их жалобы на недостаточное содержание и попросту был у них на побегушках.
Что-то во мне восстало против такой перспективы для этого мальчика. Я представляла его свободным, шагающим со своим медведем с одного рынка на другой, из деревни в деревню, встречаемым повсюду гостеприимно, играющим каждый раз перед новыми слушателями, не зависящим от хозяина человеком. И эта картина нравилась мне больше. Обеспеченность всеми благами может обойтись очень дорого! Но я была достаточно мудра, чтобы хотя бы намекнуть о неприятии этой идеи, и для начала поинтересовалась:
— По-твоему, он достаточно подходит для нас? На открытом воздухе я обманулась, а здесь поняла, что он далеко не первого разряда. Как ты помнишь, отец обещал привезти музыканта из Арагона. Стоит ли связываться с этим на короткое время?
— По мне, хоть бы он вообще больше не прикасался к лютне, — горячо возразила Беренгария. — Я хочу, чтобы он остался здесь.
— Но почему?
Она помолчала, разглядывая свои ладони. Потом заговорила снова.
— Я скажу тебе, хотя не сомневаюсь в том, что ты сочтешь мои слова безумием и присоединишься к подозрениям Матильды. — (Это меня удивило: Матильда была очень откровенна со мной, но весьма сдержанна, как мне казалось, с самой Беренгарией). — Я хочу, чтобы он остался здесь потому что однажды видела его во сне.
— Никогда не видевши его раньше? — скептически спросила я.
— Я сразу его узнала. И едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть, увидев этого мальчика наяву. Ему необходимо остаться здесь, потому что, как явствовало из сна, он очень важен для меня.
Мое отношение к снам, как и ко многим другим вещам, крайне неоднозначно. Сны и их толкование были одной из главных тем женских разговоров в будуаре, и на меня часто наводили скуку совершенно дурацкие объяснения: «Если во сне видишь воду, то любовник скажет тебе…» Но почему должно быть именно так? А если любовника вообще нет? С другой стороны, предостерегающие вещие сны получили признание не только в светской литературе, но и в Священном Писании. Как иначе было спасти Сына Божьего от детоубийственных рук Ирода, если бы не сон Иосифа о том, как он получил приказ об исходе в Египет? Подобные вопросы остаются открытыми. Мой интерес обострялся размышлениями о том, что никогда раньше, за всю нашу совместную жизнь, я ни разу не слышала упоминания Беренгарии о каком-то ее сне, более того — она всегда относилась с насмешкой к разговорам о снах других.
— И что же это был за сон?
— О, — ответила она с таким видом, как будто говорила о чем-то незначительном, — это было в одну из тех ночей, когда я не могла уснуть и Матильда заставила меня принять какую-то из своих настоек на головках мака. Мне приснилось, что я нахожусь в мрачной подземной темнице, с люком наверху, по полу которой бегают жабы и крысы. Ужас! Я чувствовала себя совершенно покинутой и впервые поняла, что это значит. Все обо мне забыли, и я знала, что буду томиться там до самой смерти. Я посмотрела вверх, на люк, откуда проливался свет, и увидела этого мальчика. В руке у него был небольшой букет цветов, и он смотрел на меня добрыми глазами. Он бросил цветы вниз, и я тут же снова оказалась на свободе, на земле, залитой солнцем. О том, как мне удалось вырваться из этой ямы, я догадывалась не больше, чем о том, почему там оказалась. Но увидев и узнав его, я поняла: для меня очень важно, чтобы он не уходил. Я уверена, что когда-нибудь, каким-то образом, он окажет мне большую услугу.

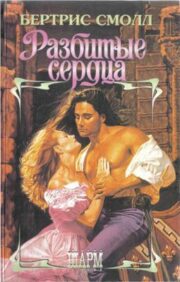
"Разбитые сердца" отзывы
Отзывы читателей о книге "Разбитые сердца". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Разбитые сердца" друзьям в соцсетях.