Элла подняла глаза. Перед нею снова было мрачное лицо мужа, каким она привыкла видеть его, с тоскливым взором, выражавшим подавляемое страдание; от блестящего торжества, несколько часов назад просветлявшего и одухотворявшего его черты, не осталось и следа, ведь это было вне дома, вдали от своих, для родного же угла оставалась лишь тень.
— Почему ты не отвечаешь? — снова начал Рейнгольд. — Неужели ты считаешь меня настолько трусом, что я стал бы отрицать истину? Если я и молчал до сих пор, то лишь щадя тебя; теперь же, когда ты знаешь истину, я готов дать отчет… Тебе рассказывали о молодой артистке, которой я обязан своим первым порывом к творчеству, своим первым успехом и сегодняшним триумфом. Тебе Бог весть в каком виде представляли наши отношения, и ты, конечно, считаешь их смертельным преступлением.
— Нет, только несчастьем, — кротко ответила Элла.
Тон, которым были произнесены эти слова, обезоружил бы каждого, и даже раздражение Рейнгольда не устояло перед ним. Он подошел к жене и взял ее за руку.
— Бедное дитя! — с состраданием сказал он. — То, что предопределила для тебя воля отца, понятно, нельзя назвать счастьем. Тебе более, чем всякой другой, нужен был муж, который изо дня в день трудился бы в спокойном круговороте обыденной жизни, не имея ни малейшего желания переступить за черту, а судьба приковала тебя к человеку, которого неотразимо влечет на другое поприще. Ты совершенно права: это несчастье для нас обоих.
— То есть, вернее сказать, я — твое несчастье, — беззвучно добавила молодая женщина. — Она, конечно, скорее сумеет сделать тебя счастливым.
Рейнгольд выпустил ее руку, отошел и почти грубо сказал:
— Ты ошибаешься и не понимаешь отношений между мной и синьорой Бьянконой. Они чисты с первой нашей встречи и до сих пор. Тот, кто сказал тебе что-либо иное, солгал.
При этих словах Элла как будто облегченно вздохнула, но тотчас же ее сердце болезненно сжалось. Она знала, что ее муж был не способен солгать, по крайней мере в такую минуту, а он сказал, что отношения между ним и красавицей-итальянкой чисты. Значит, она нисколько не сомневалась, пока это было так… но надолго ли? Сегодня вечером она сама видела в театре блеск черных демонических глаз знаменитой артистки, которым нелегко противостоять; она видела, как эта женщина передавала в своей роли все степени чувства до самой безумной страсти, как эта страсть увлекла публику и вызвала бурю аплодисментов, и легко могла заключить, что если до сих пор артистке нравилось разыгрывать роль благодетельной музы, вводящей композитора в область искусства, то когда-нибудь наступит день, когда ее привлекут другие отношения с ним.
— Я люблю Беатриче, — продолжал Рейнгольд с откровенностью, всей жестокости которой, по-видимому, не осознавал, — но такая любовь не оскорбляет тебя, не нарушает твоих прав. Я люблю в ней воплощенного гения музыки, лучший и высший идеал своей жизни…
— А что же остается для твоей жены? — перебила его Элла.
Рейнгольд смущенно молчал. Как ни просто звучал этот вопрос, в устах его жены, которую все привыкли считать столь ограниченной, он был чрезвычайно странен. Ведь само собой понятно, что она должна довольствоваться тем, что оставалось, то есть именем, которое носила, ребенком, матерью которого была! Странно! Она как будто вовсе не хотела понять это, и Рейнгольд умолк, не найдя возражения против спокойного и все уничтожающего упрека, прозвучавшего в ее вопросе.
Молодая женщина стояла, опершись рукой о рояль. Она боролась со страхом, который всегда испытывала перед мужем, глубоко сознавая его умственное превосходство и вместе с тем не пытаясь даже подняться до его уровня. Она всегда безусловно подчинялась ему, но ничего не добилась, кроме снисхождения, граничащего с презрением. Теперь он полюбил другую, и снисхождение исчезло, но осталось презрение. Элла ясно почувствовала его в признании, сделанном таким спокойным, уверенным тоном: его любовь к красавице-певице «не оскорбляла ее и не нарушала ее прав» потому, что ведь она вообще не имела никаких прав на его духовную жизнь. И вот этого-то человека ей предстояло удержать, и удержать теперь, когда его влекла к себе любовь женщины, перед которой преклонялись все, когда его манил волшебный блеск Италии, суливший ему счастливую и славную будущность! И что же она могла дать ему взамен? Только себя.
Элла почувствовала всю невыполнимость задачи, выпавшей на ее долю, и с тихим смирением сказала:
— Я знаю, ты всегда был чужд нам, никогда не любил никого из нас. Я всегда смутно чувствовала это, но ясно это стало мне только с тех пор, как я сделалась твоей женой и было уже поздно… Но как бы то ни было, я все же — твоя жена, и если ты намерен покинуть меня и ребенка ради другой…
— Кто это говорит? — воскликнул Рейнгольд с негодованием, исключавшим всякое подозрение в том, что у него была подобная мысль. — Покинуть? Отказаться от тебя и ребенка? Никогда!
Молодая женщина вопросительно взглянула на него, как бы не понимая:
— Только что ты сам говорил, что любишь Беатриче Бьянкону.
— Да, но…
— Но?.. В таком случае тебе придется выбирать между нею и нами…
— Ты вдруг проявляешь необычную решительность, — возбужденно воскликнул Рейнгольд. — Мне «придется»? А если я не сделаю этого? Если я считаю идеальную любовь к артистке вполне совместимой со своим супружеским долгом, если…
— Если ты последуешь за нею в Италию, — докончила Элла.
— Ах, ты знаешь и это? — рассердился молодой человек. — Ты, по-видимому, так хорошо осведомлена, что мне остается лишь подтвердить вести, так предупредительно доставленные тебе. Во всяком случае я решил отправиться в Италию, чтобы продолжать свое музыкальное образование, и если встречу там синьору Бьянкону, если ее близость снова вдохновит меня к творчеству и ее рука откроет передо мной мир искусства, то я, конечно, не буду так глуп, чтобы отказаться от всего этого только потому, что судьба наградила меня… женой.
Беспощадная жестокость последних слов заставила Эллу вздрогнуть.
— Неужели ты так сильно стыдишься своей жены? — тихо спросила она.
— Элла, прошу тебя…
— Неужели ты так сильно стыдишься меня? — повторила молодая женщина с видимым спокойствием, но звук ее голоса был каким-то странным, потрясающим.
Рейнгольд отвернулся.
— Не ребячься, Элла! — нетерпеливо возразил он. — По-твоему, жалобы и упреки, иначе говоря, вся проза домашней жизни, благодетельно и возвышающе действуют на человека, возвратившегося домой после своего первого успеха? До сих пор ты щадила меня в этом отношении, советую тебе и впредь поступать так же, не то тебе придется узнать на опыте, что я не принадлежу к числу мужей, которые безропотно выносят подобные сцены.
Достаточно было бы одного взгляда на молодую женщину, чтобы убедиться, как несправедлив был такой упрек. Она походила не на обвинительницу, а скорее на осужденную, чувствующую, что в этот момент произносят приговор над ее супружеством, над всей ее жизнью.
— Я знаю, что никогда не имела для тебя никакого значения, — сказала она дрожащим голосом, — никогда не могла быть чем-либо для тебя, и если бы теперь дело касалось только меня, я отпустила бы тебя, не удерживая ни словом, ни взглядом. Но у нас есть ребенок, и… — Она приостановилась и глубоко вздохнула. — Ты поймешь, что мать просит тебя о том, чтобы ты остался с нами.
Просьба была робка и нерешительна, заметно было, каких усилий стоило молодой женщине высказать ее человеку, сердце которого было закрыто для нее, и все-таки в последних словах прозвучала такая трогательная мольба, что она коснулась его слуха. Рейнгольд снова повернулся к ней.
— Я не могу остаться, Элла, — ответил он несколько мягче, но не менее решительно. — Дело идет о всем моем будущем. Ты не представляешь себе, что заключается для меня в этом слове. Тебе ведь нельзя сопутствовать мне вместе с ребенком. Не говоря уже о том, что это невозможно при путешествии с научной целью, ты сама будешь чувствовать себя несчастной в чужой стране, не зная языка, среди чуждых тебе людей и обстановки. Ты вообще должна приучить себя смотреть на меня и на мою жизнь с иной точки зрения, далекой от предрассудков и мещанской ограниченности. Вы останетесь с ребенком здесь, на попечении родителей, не позже чем через год я вернусь. Необходимо смириться с этой разлукой.
Он говорил спокойно и даже дружелюбно, но каждое его слово звучало отречением, нетерпеливым желанием стряхнуть с себя цепи. Гуго был прав: уже поздно. Его брат слишком поддался своей страсти, чтобы слышать что-либо иное. Холодное, безжалостное «необходимо смириться» было единственным ответом Рейнгольда на трогательную просьбу жены.
Элла выпрямилась с совершенно не свойственной ей решительностью, и что-то новое зазвучало в ее голосе: гордость женщины, в течение долгих лет попираемой и пробудившейся теперь, когда чаша ее терпения переполнилась.
— Да, я смирюсь с разлукой, — твердо ответила она, — так как бессильна против нее. Но я не согласна на твое возвращение. Если ты теперь уходишь, уходишь с ней, несмотря на мою просьбу, позабыв о нашем ребенке, то… уходи навсегда!
— Ты намерена предъявлять мне условия? — вспылил Рейнгольд. — Разве в течение долгих лет я не носил ярма, возложенного на меня так называемыми благодеяниями твоего отца, которые отравили все мое детство, убили мою юность и даже теперь, в зрелом возрасте, вынуждают меня бороться за свою самостоятельность, являющуюся естественным правом каждого? Вы лишили меня свободы и счастья, всевозможными цепями приковали к ненавистной мне жизненной среде и считаете меня своей собственностью! Но наконец и для меня пришел час рассвета, молниеносно осветивший мою душу и ясно указавший цель, а за ней — награду. И вот, пробудившись от тяжелого длительного сна, я нашел себя… в оковах.
Это был взрыв дикой страсти, жгучей ненависти, разящей неудержимо, не разбирая на своем пути ни правых, ни виноватых. В том и заключается вся дьявольская сила страсти, что для нее нет ничего святого и ее ненависть изливается на все, что ей противостоит.
Наступило гробовое молчание. Надломленный волнением Рейнгольд бросился на стул и закрыл глаза рукой. Элла стояла на том же месте, она не сказала ни слова, не шевелилась, даже дрожь, то и дело пронизывавшая ее во время разговора, прекратилась. Прошло несколько минут. Наконец она подошла к мужу и произнесла как будто немеющими губами:
— Ребенка ты оставишь, конечно, мне? Для тебя он будет только гнетом, а у меня нет больше ничего на свете.
Рейнгольд взглянул на нее и вдруг вскочил со своего места. Нет, не слова и не мертвенно-спокойная неподвижность ее лица так поразили его — как и брата когда-то, его поразил взор Эллы, остановившийся на нем. Впервые он увидел на лице своей жены «чудные голубые глаза», которыми он так часто любовался у своего сына, не задаваясь вопросом о том, от кого они унаследованы. Те же большие, широко раскрытые глаза были теперь устремлены на него. В них не было ни слез, ни мольбы, но их выражение… Выражение, которого он никак не ожидал и перед которым невольно опустил свой взор.
— Элла, — неуверенно произнес он, — если я слишком погорячился… Что с тобой, Элла?
Он хотел взять жену за руку, но она отстранилась.
— Ничего… Когда ты думаешь ехать?
— Не знаю, — ответил Рейнгольд, все более изумляясь, — через несколько дней… а может быть, недель… Это не спешно.
— Я сообщу родителям… Покойной ночи!
Она повернулась, чтобы идти. Рейнгольд поспешно сделал шаг к ней, как бы желая удержать ее.
— Ты не поняла меня!
Молодая женщина гордо выпрямилась. Она как-то сразу преобразилась, такого тона и осанки никто не знал у Эллы Альмбах.
— Пусть «цепи» больше не гнетут тебя, Рейнгольд. Ты беспрепятственно достигнешь своей цели и… награды… Покойной ночи!
Она быстро открыла дверь и вышла. Лунный свет бросил яркие блики на стройную фигуру в темном платье и белокурые косы. Через минуту Элла исчезла. Рейнгольд остался один.
Глава 9
— Эдакая беда у нас в доме! — воскликнул старый бухгалтер в конторе, заложив перо за ухо и захлопнув счетную книгу. — Молодой хозяин вот уже три дня как исчез из дома и не подает признаков жизни, не осведомляясь ни о жене, ни о сыне. Капитан тоже не показывает носа. Принципал все время так сердит, что не подступиться. У молодой же хозяйки такой вид, что даже больно становится, когда смотришь на нее. Бог знает, чем кончится эта несчастная история!
— Но с чего вдруг произошел разрыв? — спросил старший конторщик, точно так же откладывая в сторону работу (занятия в конторе кончались) и запирая на ключ свою конторку.
Бухгалтер пожал плечами:
— Вдруг? Мне кажется, все мы ожидали этого уже в течение нескольких месяцев. Недоставало лишь искры, чтобы вспыхнул пожар, и вот наконец явилась и она. Побывав в дамском обществе, госпожа Альмбах узнала новость, которую уже знает чуть не полгорода и которую едва ли приятно слышать, когда она касается собственного зятя. Госпожа Альмбах передала мужу. Вы ведь знаете нашего принципала, вам известно и то, с каким недоброжелательством он относится ко всем этим артистическим бредням и как боролся с ними, — и вдруг такое открытие! Он приказал позвать к себе молодого хозяина, и разыгралась сцена! Я кое-что слышал из соседней комнаты. Если бы Рейнгольд по крайней мере был благоразумен и уступил, — ведь ясно, как день, что он не без греха, — то, пожалуй, дело как-нибудь и уладилось бы; но вместо того он заупрямился, заявил, что не желает быть купцом, что намерен отправиться в Италию и заниматься музыкой, что он и так уже слишком долго терпел здесь рабство, и тому подобное. Принципал был вне себя от гнева; он запрещал, угрожал, наконец, стал ругаться, и тут-то, должно быть, и произошел взрыв. Молодой хозяин до того разъярился, что я боялся, как бы не случилось несчастья. Он затопал ногами как сумасшедший и закричал: «Пусть хоть весь мир воспротивится, но будет так, а не иначе. Я не позволю больше командовать собой и предписывать мне, что я должен думать и чувствовать». С этими словами он ушел, а через час опрометью выбежал из дома, и с тех пор о нем ни слуха, ни духа. Упаси, Боже, от таких семейных сцен!

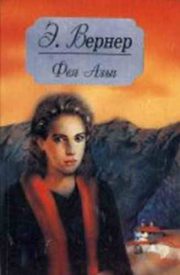
"Развеянные чары" отзывы
Отзывы читателей о книге "Развеянные чары". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Развеянные чары" друзьям в соцсетях.