Ирина Степановская
Рецепт счастья от доктора Тины
Пациент на приеме у врача:
– Скажите, вам помогло лекарство, что я вам выписал в прошлый раз?
– Большое спасибо, доктор! Очень помогло. Мой дядя выпил его по ошибке и оставил меня единственным наследником.
1
Самолет летел в ночи на восток, навстречу солнцу. Когда он сделал разворот и пошел вниз, те, кто не спал, отметили, что чуть натужнее загудели двигатели. По-видимому, они все еще летели над морем, и не было ни единого светлого пятна за бортом, кроме тех, что горели на крыльях лайнера. Они спустились еще ниже. И вдруг – сгусток света в темноте, будто спутался и переплелся внизу клубок проводов с горящими лампочками.
– Мама, там корабль! – на весь салон закричал вдруг по-русски мальчик, похожий не то на испанца, не то на грузина. Изо всех сил он стал тормошить мать за плечо – непосредственный, непременно желающий, чтобы мать тоже увидела это чудо – внизу в полной темноте светился огнями огромный океанский лайнер.
– Ну ладно, Вася, отстань, дай поспать, – сонно пробормотала мать. Мальчик был хорошо виден с места Ашота – они с матерью сидели наискосок от него, по другую сторону прохода. И поскольку ни Вася, ни сам Ашот, в отличие от других пассажиров, не спали, они заговорщицки временами перемигивались.
– Смотрите, вы видите? – обернулся мальчик. Самолет в это время как раз сделал крен в нужную сторону, и Ашот в незашторенный противоположный иллюминатор действительно увидел идущий под самым крылом светящийся огнями корабль. Потом показались другие суда. Еще и еще, они были выстроены в колонну на рейде; дальше появились целые острова огней – это был уже город. Под крылом стало светлее, потом по огням стали различимы параллельные линии автомобильных дорог, и Ашот понял, что они миновали прибрежную полосу и летят уже над землей. Тут самолет выровнялся, раздался толчок – это с той и другой стороны вышло шасси. Ашот поднял вверх большой палец руки, показывая мальчику, что он видел всю красоту и что вообще они уже скоро приземлятся. Вдруг погас верхний свет, остались гореть только лампочки над сиденьями, и захотелось сглотнуть.
Стюардесса пролепетала свою тарабарщину на двух языках. Прошло еще несколько томительных минут, и наконец самолет коснулся колесами полосы и резво побежал, подпрыгивая, по телу земли, сообщая внезапно усилившимся гулом двигателей о своем успешном прибытии. Потом его двигатели снизили обороты, плоскости поглотили выпущенные на время посадки закрылки, и лайнер, горделиво покачиваясь и демонстрируя себя и свою мощь, срулил с взлетно-посадочной полосы и остановился. Тягач подъехал к нему, пленил и отбуксировал к аэровокзалу. Но самолет при этом вовсе не выглядел как затравленное заарканенное животное. Сверкая серебристыми боками в свете аэропортовских огней, он красовался волнистым бело-сине-красным флагом на хвосте и темнел латиницей AEROFLOT AIRLINES на корпусе.
– Наш самолет совершил посадку… – дальше забурчало что-то неразборчивое. Названия аэропорта и столицы Исландии слились в какую-то плохо различимую чепуху, похожую на лягушачье кваканье в майскую ночь.
– Страна гейзеров и фьордов, – пробормотал Ашот. Он взял свою сумку через плечо и изготовился к выходу. «Сначала в дьюти-фри за подарками, а потом в бар. Но не наоборот!» – пригрозил он себе. Мальчик Вася с испанско-грузинской внешностью, стоящий в проходе впереди Ашота, в этот момент обернулся. Ашот улыбнулся ему.
Мать мальчика почему-то приняла на свой счет внимание к сыну, поправила прическу:
– Долго еще лететь до Москвы?
– Приблизительно четыре часа.
Но ее лицо, припухшее от нездорового сна, было неинтересно Ашоту. Он вдруг поразился другому – как легко, естественно и бездумно вылетают из него русские слова. «Говорить как дышать. Это важно». Он провел рукой по своим коротко теперь остриженным волосам и, несмотря на то что в аэропорту прибытия было плюс одиннадцать градусов, обмотал шею своим старым, еще московским, в красно-зеленую клетку, шарфом.
Пассажиров провели в здание аэропорта. В аквариумах сувенирных ларьков он затоварился пакетиками с косметикой для бывшей квартирной хозяйки – пышнотелой моложавой дамы, обещавшей снова сдать ему комнату. Для Валентины Николаевны он купил флакон французских духов. Для Барашкова – прекрасную швейцарскую ручку. Времени оставалось в обрез, и хотя любезная продавщица не выражала никаких признаков нетерпения, нужно было торопиться. Он попросил показать переливающийся сиренево-голубым индийский платок и быстро купил его. Просто так, на всякий случай.
Теперь в бар. Их было множество, Ашот зашел в первый попавшийся. Там, к счастью, не было посетителей.
– Вод-ка? «Сто-лич-ная»? – предложил бармен, смешно коверкая язык, безошибочно угадывая в Ашоте «русского» пассажира.
– Водку пить буду дома, – сказал Ашот. И вновь поразился тому, как легко вырвалось у него это слово: «дома». И добавил по-английски: – А сейчас сок, пожалуйста. Апельсиновый. Из апельсинов.
– Неужели водку не будете? – вдруг на чистом русском спросил бармен. – Те, кто домой летит, всегда водку пьют.
Ашот посмотрел на него, хмыкнул:
– Коньяк буду. «Meukow».
Бармен хотел подмигнуть, но поостерегся. Подал сок и коньяк. Сок оказался терпким, не сладким. Ашот сел за стойку, достал таблетку снотворного. Бармен покосился в его сторону. Ашот положил на язык таблетку, запил соком. Посидел немного и выпил коньяк. Он хотел заснуть в самолете, чтобы незаметно покрыть те оставшиеся часы, что отделяли его от зыбкого понятия «дом». Ашот давно уже не хотел задумываться о том, что именно он вкладывает в это понятие – одноэтажное приземистое строение из белого камня с маленьким садиком на городской окраине у Каспийского моря или комнату в общаге на улице Академика Волгина, где он с удовольствием прожил шесть быстро пролетевших лет учебы в Москве. А может быть, комнатушку в коммуналке на Сухаревке, которую как раз и снимал у пышнотелой дамы, время от времени кидавшей в его сторону призывные взгляды? Или все-таки то самое отделение реанимации, в котором проработал после окончания института вместе с Валентиной Николаевной и Барашковым целых семь лет… Зачем об этом задумываться? «Дом» существовал в его памяти, как многоликое божество – он мог быть одновременно и тем, и другим, и третьим… Вот только то место, где он жил в Америке, язык не поворачивался называть «домом».
Мальчик Вася, увидев, что вернувшийся на свое место дядя подкладывает под шею надувную подушку и изготавливается ко сну, с негодованием отвернулся. Укоризненно посмотрела на Ашота и мама мальчика. Однако толстое обручальное кольцо на ее пальце дало повод Ашоту сделать извиняющееся выражение лица и закрыть глаза. Он устроился поудобнее и мгновенно заснул. А мальчик, бессознательно встревоженный непонятной его детскому телу сменой часовых поясов и не употребляющий пока ни снотворное, ни крепкие напитки, остался по сравнению с ним в невыгодном положении: он так и не заснул почти до самой Москвы. И только перед посадкой его, как назло, сморил беспокойный тяжелый сон, и рассвет над столицей не поразил его своей красотой. Зато сейчас, на взлете, мальчик снова увидел внизу чужую гавань, и суда на рейде, и лунную дорогу на воде. Только исчезло уже волнующее видение того прекрасного, сияющего огнями корабля, которым они с Ашотом любовались при посадке. Мальчик повернул голову – все вокруг спали, и не с кем было ему разделить красоту мира. Тогда, может быть впервые в жизни, у него возникло чувство, что все его предали.
2
Как всегда, по средам к девяти часам утра узкий и длинный больничный конференц-зал самой обычной городской больницы заполнялся врачами. Первыми на еженедельную конференцию, как правило, собирались терапевты из всех трех больничных терапевтических отделений. По утрам у терапевтов не бывает особой запарки. На «Скорой» пересменка в восемь, поэтому больных в приемный покой подвозят, как правило, часам к десяти. А всех, кому судьбой было начертано «заплохеть» этой ночью в отделениях, уже к утру успевают спасти, поэтому терапевты по достоинству занимают первые – почетные и чистенькие ряды в конференц-зале. Потом к ним подтягиваются так называемые «узкие» специалисты – все сплошь оканчивающиеся на «логи»: неврологи, урологи, отоларингологи и офтальмологи. Позже в зале появляются «урги». У хирургов по утрам всегда находятся неотложные дела – кого-то пораньше перевязать до операции, а кого-то еще не успели прооперировать с ночи, в общем, работа у них «поважнее этих дурацких конференций», как говорят они между собой. Поэтому «урги» входят в конференц-зал громко, с шумом подвигая скамьи с тройными сиденьями, садятся вместе, в любое время года демонстрируют обнаженные по локти руки и сдвигают на макушки высокие накрахмаленные колпаки.
Совершенно особняком появляется в зале единственный в больнице «ом» – патологоанатом Михаил Борисович Ризкин, он же и заведующий патологоанатомическим отделением. Михаил Борисович обычно садится в последнем ряду на место, крайнее к центральному проходу. И когда нужно сделать доклад, идет к трибуне упругой танцующей походкой бывшего боксера легкого веса. К его насмешливой улыбке, небольшому росту, сломанному носу и зеленым крапчатым глазам очень подходит галстук бабочкой, который Михаил Борисович носит всегда, даже летом, даже с рубашкой с короткими рукавами и даже с медицинским халатом.
А на последних двух конференциях пред очами ученой публики материализовывалась еще и внушительная фигура рыжеволосого веснушчатого здоровяка с лицом и фигурой греческого бога – это Аркадий Петрович Барашков, анестезиолог-реаниматолог. Он вальяжно садился, закинув ногу на ногу, в последнем ряду высокого собрания, по другую сторону прохода от Михаила Борисовича Ризкина. Кое-кто из докторов его помнит по прежней работе в отделении реанимации у бывшей заведующей – Валентины Николаевны Толмачёвой. Больше двух лет уже не существует это отделение, но некоторые доктора до сих пор вспоминают о нем с сожалением.
– Аркадий Петрович, вы никак вернулись назад, снова к нам, смертным? – Это Михаил Борисович намекает Барашкову на промежуточный этап в его трудовом стаже – двухгодичное пребывание в коммерческом отделении «Анелия»[1] – все на базе прежней реанимации в этой же больнице.
– Неужели соскучились по авгиевым конюшням?
– Да я, дорогой коллега, работы настоящей никогда не боялся. – Доктор Барашков теперь был приписан к одной из хирургий, хотя больных принимал к себе в палату реанимации из всех больничных отделений. Благо только с улицы по «Скорой» ему не везли.
– Смотрите, не пожалейте. В нашей больнице работы по-прежнему для всех хватает. Запариться можно. И патологоанатомам, и реаниматологам, – Михаил Борисович шутя сделал ударение в последнем слове на «логам». Подвинулся к Барашкову, усевшись на соседнее кресло.
Аркадий Петрович только хмыкнул. Вот он уж точно был окончательно и бесповоротно «логом». Не только по названию – по духу: суффикс «лог» ведь означает «учение, наука». Опыт, конечно, со счетов сбрасывать нельзя, но и через почти двадцать лет работы Аркадий Петрович не гнушался заглядывать в медицинские книжки.
– Да и деньги здесь у нас, конечно, другие. Не то что у вас были в «Анелии»… – покачивал головой Михаил Борисович.
– Деньги были другие, а работать – тоска.
– Да вас там и работало-то всего три человека.
– Не три.
– А сколько? – удивился Ризкин.
– Два с половиной.
– Это как? Я не про ставки говорю, про людей.
– И я про людей.
Главный врач с высоты президиума угрюмо наблюдал, как Ризкин о чем-то разговаривает с Барашковым. «Вот еще тоже деятель, – с раздражением он в который уже раз разглядывал фасонистый галстук-бабочку патологоанатома. – Сегодня он в бордовом. Каждый день их, что ли, меняет? Вчера, мне кажется, видел я его в синем в мелкую крапинку, а позавчера – в зеленом…» Главный врач поморщился, и докладывающий доктор запнулся и вопросительно посмотрел в его сторону, приняв гримасу начальника на свой счет.
– Я могу продолжать? – негромко спросил он.
– Да продолжай уж, да и заканчивай наконец, – хмуро буркнул в сторону трибуны главный врач. А сам подумал: «Если вон у нашей звезды отечественной патанатомии не будет к тебе никаких вопросов, то я-то уж тем более вылезать не стану… – Главный врач недолюбливал Михаила Борисовича. – Устраивает вечно на конференциях свои заумные шоу. Нет чтобы у меня спросить, а не повредит ли его наука больничному отчету? Легко быть всегда самым умным, а ты вот попробуй, повертись, чтобы и науку соблюсти, и смертность чтобы была, не дай бог, не выше, чем по городу. Я, может быть, тоже рад бы наукой заниматься, да высокая смертность это тебе и лишение бюджетных денег, и премий, и пальцем на тебя показывают на всех совещаниях…»

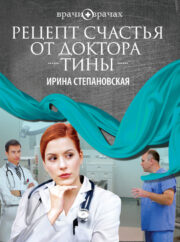
"Рецепт счастья от доктора Тины" отзывы
Отзывы читателей о книге "Рецепт счастья от доктора Тины". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Рецепт счастья от доктора Тины" друзьям в соцсетях.