Кавери смотрела сейчас только на того, против кого обратила свое негодование. Она и не заметила, какое сильное впечатление произвели ее слова на сына. «Недомерок и калека» — он знал это сам, но как могла его мама произнести такие слова? Она, такая тактичная и внимательная, никогда не позволившая себе грубого или непродуманного слова по отношению к кому бы то ни было, как могла она сказать это про него? Она воспитывала его точно так же, как растила бы здорового ребенка, не делая никаких скидок ни в учебе, ни в работе. Он всегда считал, что мать — единственный человек на свете, для которого он нормальный, который видит его не так, как другие. И вот «недомерок», «калека»… И для нее он просто инвалид, неудавшееся дитя, а может быть, и тяжелое бремя, которое она вынуждена нести всю жизнь, — он теперь не смог бы поручиться, что это не так!
Что происходит вокруг него? Еще час назад, еще минуту назад, когда весь мир казался ему сплошным невыносимым страданием, он все-таки знал, что есть во Вселенной приют для него — сердце его матери, всегда распахнутое навстречу сыну. Оно примет его, обласкает и успокоит, что бы ни случилось за стенами их домика на колесах, в чужом и враждебном мире. Но вот это сердце рядом с ним — и что же? Оно любит, но и в нем тоже есть зеркала, в которых он видит свое несчастье, и в нем тоже он всего лишь маленький урод и калека!
Апу отступил назад, чтобы посмотреть на мать со стороны. Она продолжала свой спор с господином Шармой, что-то эмоционально ему доказывая. Сейчас ей было не до сына — она устраивала судьбу Мано, ее мужа и ее отца. Никому из них она не была в этот момент нужна так, как Апу, но она не поняла этого.
«Я считал, — говорил себе он, — что важней меня для нее ничего не существует, но где же она теперь, когда мне так плохо? С ними? Они уладят свою жизнь, свои проблемы, которые кажутся им такими важными и которые тут же исчезли бы, если бы они на минуту представили себя с такими ногами, как у меня».
Апу резко повернулся и пошел прочь от столпившихся перед цирком людей. Все видевшие и понявшие Рама и Джай бросились к нему со слезами. Только они знали, сколько ему пришлось пережить в этот день, с какой высоты довелось упасть. И только они могли представить, какую боль испытывал он после этого падения. Они обнимали его, шепча невнятные утешения, но Апу хотел только одного — остаться в одиночестве. Он ласково и бережно оторвал их руки от своей груди, вытер катящиеся по щекам друзей слезы и, ободряюще улыбнувшись, ушел в свой домик, который теперь уже не казался ему крепостью.
А на лужайке разыгрывался последний акт полюбившейся зрителям драмы. Шарма, потрясенный речью Кавери, немного смягчился. Мано и Винсент пали перед ним на колени, прося простить их за ослушание. Публика горячо присоединилась к их мольбе, и после приличного раздумья господин Шарма простил обоих и объявил о готовящейся свадьбе. Счастливые и взволнованные, молодожены принимали поздравления, а артисты на руках пронесли хозяина вокруг цирка.
Апу слышал крики радости. Он пытался спрятаться от них, накрыв голову подушкой, но не тут-то было. Волна всеобщего оживления докатилась и сюда, и Апу казалось, что сейчас его окончательно раздавит этот апофеоз. Он выбежал из домика, закрыв уши руками, и помчался к морю. Только там он нашел покой и тишину, наполненную звуками тишину моря. Вечерний ветер остудил его щеки, на теплом песке отдохнуло тело, а наступившие сумерки спрятали его от людей. Но как привести в порядок мысли? Как вернуться к матери и посмотреть ей в глаза? Как продолжать вести это существование, которое из жизни превратилось в кошмар?
На эти вопросы у него не было ответа. Но вот из темноты белой тенью скользнула Мано и села рядом.
— Милый мой, как я люблю тебя, — произнесла она, улыбаясь. — Если бы не ты, я никогда не была бы счастлива. Ты очень помог мне, Апу.
Она, наверное, ждала, что он скажет что-нибудь в ответ, но Апу не мог. Он смотрел на лунный мостик, перекинутый прямо ему под ноги от ночного светила, и думал: как бы уйти по этому мосту от всех, чтобы никогда не слышать, не видеть, не страдать так…
Обняв его на прощанье, Мано встала и пошла к цирку.
— Через два дня приедут гости, — сказала она, обернувшись. — Теперь у меня только одно желание — чтобы ты спел на моей свадьбе. Ты ведь споешь, правда?
— Конечно, — кивнул он. — Конечно, я спою.
Мано махнула рукой и растаяла в сумерках.
Тебя никто не отнимал —
Ты не принадлежала мне.
Один мечтал, один страдал,
Один горел в своем огне.
Тебя никто не уводил —
Ты собиралась в путь сама.
Ты и не знала, что любил,
Что плакал и сходил с ума.
Я был твой друг, я был твой брат,
А если и не мог им стать,
То сам я в этом виноват,
И некого здесь обвинять…
Что, если спеть эту песню на твоей свадьбе, Мано?..
Глава двадцать шестая
Апу и вправду пришлось петь для гостей на свадьбе — так оказалось проще и легче ему самому. Если бы он отказался, то не знал бы, куда спрятаться от вопросов: почему? не болен ли? не обидели ли чем-нибудь? Лучше уж с веселым лицом спеть несколько куплетов под аккомпанемент свирели. Апу выбрал народную песню о девушке, спрашивающей у Солнца, в чем состоит ее счастье, и получившей ответ: узнаешь, когда в твой дом войдет любовь. Гости подпевали и хлопали в ладоши, а исполнитель улыбался и думал: нельзя ли ему уйти отсюда прямо сейчас…
Мано в гирлянде из оранжевых и желтых бархатцев обнимала его, Винсент жал ему руки, мать, отдыхающая теперь от предсвадебных трудов, улыбалась сыну со своего места, Шарма представлял его всем подряд как своего преемника, а ему хотелось только одного: убежать, спрятаться от всех и навсегда забыть об этой свадьбе.
Наконец молодые уехали в новом автомобиле в порт, где их ждал корабль, отправляющийся в кругосветное плавание, — это примирившийся с их браком господин Шарма расщедрился на свадебный подарок. Гости разошлись, артисты разбрелись по своим вагончикам, и наступила долгожданная тишина, показавшаяся Апу спасением. Но, наверное, его было поздно спасать.
Он бродил по полутемному цирку, удивляясь пустоте, которая поселилась в его душе. У него не было никакого интереса к работе, к людям, считавшим себя его друзьями, не было желаний, не было даже чувства долга — он освободился от него. Зрители? Пусть ищут себе нового шута, желающие найдутся — на улицах Индии так много умирающих с голоду лилипутов… Хозяин? Обойдется и без него… Мать? Может быть, так ей будет даже легче.
Он чувствовал, что сил больше нет нести эту ношу — свое безрадостное существование. Хватит с него, помаялся двадцать пять лет, натерпелся издевательств и жалости. Что у него впереди? Новые издевательства и новая жалость. И ради этого жить?
Апу поискал среди циркового снаряжения, выбирая необходимое с тщательностью, с которой готовился к новому номеру.
Найдя веревку, которая показалась ему вполне подходящей, он отправился с ней на манеж, к оставленному воздушными акробатами для утренней репетиции турнику.
— Апу, Апу, — приветствовал его попугай, разбуженный манипуляциями своего друга.
К его удивлению, клоун не проявил никакой радости от встречи.
— Тебя мне только сейчас недоставало! — недовольно сказал он. — Сделай милость, поищи себе другой ночлег. Мне совсем не хочется, чтобы ты все это видел.
— Апу! Апу! — испугался попугай, увидев, как клоун перекидывает веревку через перекладину турника.
— Немедленно проваливай отсюда! — разозлился Апу и замахал руками на надоедливую птицу.
Попугай в панике заметался под куполом и вылетел в проход.
— Апу! Апу! — прокричал он, влетев в форточку окна, у которого под лампой сидела Кавери с шитьем в руках.
— Его нет, он, наверное, у Рамы и Джая, — ответила она. — Если хочешь повидаться с ним, отправляйся туда. Открыть тебе дверь или вылетишь обратно в форточку?
Но попугай не собирался улетать. Он с пронзительным криком облетел комнату и, наткнувшись на фотографию, на которой улыбались друг другу Кавери и Апу, изо всех сил ударил клювом по стеклу. Рамка сорвалась с гвоздя и упала на пол. В звоне разбившегося стекла Кавери услышала какую-то страшную весть и стремительно поднялась, уронив шитье.
— Что с ним? Где он?
Она бросилась из вагончика, еще не зная, куда бежать, но попугай, вылетевший следом, продолжал кричать и хлопать крыльями, показывая дорогу.
Первое, что увидела Кавери, оказавшись на манеже, это болтающиеся ноги сына, коротенькие ножки лилипута, так высоко оторвавшиеся от земли.
Она не помнила, как подбежала, как схватила тело Апу, поднимая повыше, чтобы не давила на горло петля, как развязывала ее одной рукой. «Опоздала, поздно!» — билась в ее мозгу страшная мысль, но нет — он закашлялся, задышал, сжал ее руку.
— Мама! Зачем? Зачем ты это сделала?
— Как это «зачем?» — растерялась Кавери. — Мальчик мой! Ты хотел умереть? Как ты мог?
Она схватила его на руки, как ребенка, и понесла прочь от этого места, которое теперь навсегда будет для нее страшным. Здесь, на манеже, где он веселил людей, заставляя их смеяться, поселилась тень смерти, вытеснив радость и смех.
Она плакала и прижимала сына к себе так же, как много лет назад, когда смотрела на багровое зарево, в котором сгорел другой ее ребенок. Не спасла Раджа и вот сейчас чуть не потеряла Апу! Бедный мальчик, почему он решился на это?
Она уложила сына на кровать и, встав рядом с ним на колени, принялась гладить горячей рукой по лбу и волосам. Мысли путались у нее в голове, бессвязные слова смешивались со слезами.
— Только те, у кого ничего нет, могут так поступать. Чего тебе не хватало, Апу?
— Мне не хватало роста, мама, — усмехнулся сын, все еще не осознавший до конца, что вернулся назад, в мир, который несколько минут назад оставил с облегчением и надеждой на нечто иное.
— Для меня ты выше всех, мой мальчик! Ты выше и прекраснее всех!
— Ты всегда так говорила, мама, — Апу взял ее руку и прижал к щеке. — И я верил тебе. Но теперь я понял, что это только слова, которые говорятся для того, чтобы утешить. В них нет ни капли правды.
— «Ни капли правды?» Что ты говоришь! — Кавери даже вскочила на ноги. — Милый, я не понимаю тебя!
— Мама, мама… — покачал головой сын. — Вспомни, как ты сама призналась, что твой сын и для тебя урод.
— Апу, что ты говоришь? Разве я могла бы произнести такую ложь?
— Ты даже не помнишь? — Апу закрыл глаза и замолчал.
Конечно, жестоко повторять ее слова, но с озлоблением страдания он вдруг отважился на эту жестокость:
— Мама, ты сказала Шарме в присутствии многих людей, что поняла бы его недовольство, если бы Мано вышла замуж за такого недомерка и калеку, как твой сын.
Наконец Кавери поняла, о чем идет речь.
— Да, я что-то такое говорила, но… Разве это означает, что ты урод?.. Какая глупость… Ты пойми…
Она совершенно растерялась, осознав в эту минуту, какой страшный смысл имели для сына ее неосторожные слова.
— Мальчик мой! Пойми меня! — почти закричала она, молитвенно сложив руки и опять опускаясь перед ним на колени. — Я не могу считать тебя уродом, ты часть меня! Вот у меня седые волосы — мне жаль, что они седые, но это мои волосы. Так и ты: я хотела бы, чтобы у тебя были длинные ноги, как у других, но я люблю и эти — они тоже мои, родные, как весь ты. Когда ты падал и сбивал коленки, мне было больней, чем тебе, потому что для тебя это была только пустяковая царапина, а для меня — боль моего сына, единственного, драгоценного, ненаглядного! Я сказала какую-то глупость — прости меня! Я ведь старалась говорить так, чтобы они поняли меня, я говорила на их языке, их словами, их понятиями. Не для меня ты недомерок, не для меня калека, но я потому так легко и сказала это, что вижу тебя совсем другим. Мне не больно было говорить эти слова, потому что они не имеют отношения к моему сыну, к тому, каким я его вижу. Прости меня, я заставила тебя страдать, но ты еще не знаешь, как страшно я виновата перед тобой. Я причина того, что ты такой, я совершила поступок, который не должна была совершать…
Кавери уронила голову на подушку и зарыдала.
— Мама, мама, что ты говоришь?
Ее отчаяние потрясло Апу, заставило пожалеть обо всем, что случилось в этот день. Не верить ей он не мог, и теперь ему вдруг стало стыдно и за свои упреки, и за то, что он, жестокий в своей озлобленности, хотел оставить ее одну на этом свете, наказав за случайные и ничего не значащие слова, что думал только о себе, о своей боли, забыв ее любовь, ее преданность, которую не зачеркнуть никакой глупой фразой. Может ли мать, отдавшая сыну всю жизнь, быть перед ним виновата?

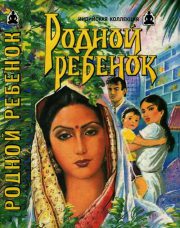
"Родной ребенок. Такие разные братья" отзывы
Отзывы читателей о книге "Родной ребенок. Такие разные братья". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Родной ребенок. Такие разные братья" друзьям в соцсетях.