– Я думаю, нам нельзя больше тянуть, Вик. Мы должны решиться, потому что в эти выходные у мамы день рождения.
Последние слова окончательно вывели Виктора из равновесия. Обычно все три брата объединялись и покупали подарок, а неизменный семейный ужин проходил на улице Президьяль.
– Боже мой, ведь правда...– пробормотал он.– Получается, одно из двух – либо мы до этого говорим с папой, либо мы вообще ничего не говорим, как будто ничего никогда не знали.
– А ты что выбираешь? Виктор глубоко вздохнул:
– Откровенно говоря, я не чувствую себя поборником справедливости. По зрелом размышлении, я думаю, что лучше смолчать. Если правда всплывет наружу, никто ничего не выиграет. Папа уйдет, и его жизнь будет одинокой, он не в том возрасте, чтобы строить все заново. О маминой жизни и говорить не стоит.
– Значит, ты отпускаешь грехи?
– Маме? Не мне ее судить. Мы не можем ничего изменить и тем более исправить, Макс. Даже если она и добилась, чего хотела, она дорого за это заплатила с тех самых пор...
– Почему? Ты думаешь, она испытывает угрызения совести?
– Не знаю, может быть, и нет...
На самом деле Виктор не имел на этот счет никаких соображений. Очевидно, их мать была не такой женщиной, о которой можно сказать, что хорошо знаешь ее...
– Со своей же стороны,– добавил он,– мне не в чем ее упрекнуть. Да и тебе тоже.
– А Нильс? Ты думаешь, он согласится молчать?
И на этот вопрос Виктор не знал ответа, поэтому только беспомощно махнул рукой.
– Я ощущаю себя адвокатом дьявола, но в глубине души согласен с тобой. Мысль о том, чтобы отдать ее на расправу отцу, ужасает меня.
Реакцию их отца было трудно предугадать. Как он воспримет известие о том, что потерял тридцать лет жизни рядом с женщиной, которую принимал за святую, а она оказалась чудовищем?
– Это выше моих сил, честное слово,– проронил Виктор.– Давай сожжем этот блокнот, Макс!
Ломая головы, пытаясь найти решение, они, как минимум, пришли к одному заключению: надо спасти то, что можно спасти, иначе семья развалится.
– Сжечь его? Да... Но объясни мне прежде, почему мама сама этого не сделала? Она не могла забыть о нем, это совершенно невозможно! Платок, фотографии еще могут пройти, но в блокноте-то нет ничего анонимного, это исповедь.
– Торговец мебелью был высокого роста, и то с трудом его достал. Кто тебе сказал, что она не искала его повсюду? Я ведь тоже его не нашел, хотя думал, что перерыл все и везде.
– Нет. Вик. Если она спрятала его в том шкафу, она бы прекрасно об этом помнила. Думаю, что она, наоборот, не хотела его уничтожать. Как трофей.
– Платка было недостаточно?
– Платок – это ерунда. Ведь когда мы его нашли, мы ничего не поняли. А вот блокнот... Каким бы чудовищным ни был ее поступок, но он оказался самым важным, что она совершила в своей жизни. Может быть, она, сознательно или нет, не хочет смириться с тем, чтобы не оставить следа.
Подавленные, они обменялись долгим взглядом, потом Максим снова наполнил бокалы.
– Что бы мы ни сделали, будет казаться, что мы совершили ошибку. Даже если мы ошибемся, все-таки блокнот надо сжечь.
Виктор согласно кивнул, молча отпил шампанское и встал из-за стола. Оба брата прошли в гостиную и опустились перед камином, накладывая на подставку дрова.
– А ведь Нильсу мы сказали, что уже сделали это,– напомнил Максим.
– А если он все же расскажет папе?
– То, что может сказать он, будет не так страшно, как в действительности. Некоторые фразы такие отвратительные...
Виктор почувствовал на своем плече руку брата и услышал, как тот вышел из комнаты. Максим знал, где спрятан блокнот – они прятали его вместе, – и вернулся он очень скоро. Виктора охватила нервная дрожь. Он безвольно оторвал кусок газеты и подсунул под дрова. Хватило бы у него смелости без одобрения брата? Он пошарил в кармане джинсов и достал зажигалку.
– Надеюсь, мы не совершаем великую глупость? – пробурчал он сквозь зубы.
Пока он разжигал бумагу, начали потрескивать щепки. Он выпрямился, глядя на огонь, и вздрогнул, когда Максим вложил блокнот ему в руку.
– Отрывай по листочку, так надежнее.
Он вооружился щипцами, и Виктор начал отрывать страницы, роняя одну за другой в огонь. Помимо воли, его глаза впивались в строки, выхватывая отдельные слова. Нет, решительно, ни отец, ни младший брат не должны были прочесть эти признания Бланш, написанные с таким цинизмом. Да и сам он никогда больше не сможет смотреть на мать без чувства глубокой боли. Сумеет ли он взглянуть ей в глаза? Под конец он бросил в огонь черную обложку и увидел, как та скорчилась, прежде чем вспыхнуть.
Несмотря на длительную практику, доктор Леклер чувствовал себя смущенным, почти взволнованным, в то время как эмоции в отношениях с пациентами были элементом весьма нежелательным. Последний раз, когда он видел Нильса, он оценил его состояние как очень плохое, но Нильс был достаточно сознательным – и достаточно умным – пациентом, чтобы шаг за шагом продвигаться к поиску причин своего несчастья. Было видно, что объяснения, данные ему с одного раза, произвели на него эффект разорвавшейся под носом хлопушки.
– Мне казалось, я плохой, неблагодарный, отвратительный! – злобно выкрикивал Нильс – И все это время часть моего мозга, куда мне, к несчастью, нет доступа, тихонько подсмеивалась.
– Неосознанное – это...
– ...то, что надежно заперто, уверяю вас! Я все видел, а значит, знал. Вы понимаете это? Долгие годы, когда эта женщина читала мне сказки, давала микстуру от кашля, мерила температуру, я знал, что она убила мою мать! На самом-то деле я должен был быть единственным, кто знал, что она прятала под ласковыми улыбками и так называемой нежностью, и, тем не менее, я во все это наивно верил!
Его история была особенно гнусной, но доктор Леклер слышал и похуже, увы!
– У вас сохранились образы этой сцены?
– Нет... Этот платок с лошадками, конечно, мне знаком... Но не думаю, что могу различить что-то другое. Лестница-стремянка? Мне кажется, она была синяя. Мне надо еще раз увидеть двор нашего дома в Каоре или...
Его голос сошел на нет, а глаза заплутали в тумане. Выражение лица было таким болезненным, что доктор отвел взгляд.
– Что вы сейчас рассчитываете делать, Нильс? – спросил он ровным голосом.
– Я не знаю. Предполагаю, что должен рассчитаться, чтобы обрести покой. Начать с чистого листа. А пока...
Он достал банкноты из кармана и разложил их на письменном столе. В конце каждой консультации он всегда платил наличными, прежде чем назначить следующий сеанс. На этой неделе он приходил три раза, в срочном порядке, а теперь было бы лучше перейти на еженедельный график.
– В следующий четверг, как обычно?
– Нет, я не уверен, что мне захочется,– ответил Нильс – Я вам позвоню.
Не обращая внимания на удивленный вид доктора Леклера, он кивнул ему и вышел. На улице его встретил теплый дождь, и он пошел вдоль мокрого тротуара. Разговор с психоаналитиком немного расслабил его, по крайней мере, вначале, но теперь ему надо было действовать. Если он этого не сделает, он останется пленником своего воспоминания, раздавленным вечной виной, которая и так почти уничтожила его. Чтобы избавиться от этой вины, он, прежде всего, должен отомстить за свою мать, даже если существует лишь единственный способ это сделать. Отомстить за мать – да, но еще и за маленького беззащитного ребенка, который всегда существовал в нем, которому тридцать лет затыкали рот, а теперь, наконец, он может вопить о своем отчаянии.
Нильс скрылся от дождя на станции метро и достал из кармана куртки записную книжку. Он открыл ее и пролистал торопливо, чтобы справиться, не ждут ли его какие-нибудь дела в предстоящие дни. Он заметил, что на ближайшее воскресенье что-то было помечено. День рождения мамы. Эти три слова вызвали в нем такую вспышку ярости, что он чуть не отбросил книжку подальше от себя.
Подошел поезд, и он отодвинулся назад, закрыв книжку дрожащей рукой.
Каждый вечер, когда Виктор открывал первую створку ворот, Лео выскакивал из «ровера» и мчался по аллее, обезумев от радости. Он целый час носился повсюду, фыркал, обнюхивал и грыз все, что попадалось по пути: камни, ветки, садовый инструмент.
Виктор следил за ним глазами, в нерешительности стоя у ворот. Вот уже неделю он отодвигал со дня на день свой визит к Виржини, разрываясь между безумным желанием видеть ее и непонятной скромностью.
Он вернулся к машине, мотор которой продолжал работать, и окончательно закрыл ворота. Ждать еще – значит только усугублять это глупое недоразумение, возникшее между ними. После того как Виржини провела ночь в Роке, они не только не виделись, но даже нормально не поговорили по телефону. Если вдруг она решила возобновить отношения е Пьером Батайе, он предпочел бы узнать об этом немедленно.
Лео исчез, занятый своими делами. Скорее всего, он не заметит его отсутствия. За короткое время Виктор здорово привязался к собаке, которая, впрочем, очаровала и всех прочих членов семьи. Даже Максим больше не делал замечаний по поводу присутствия босерона в кабинете брата.
Ему понадобилось пять минут, чтобы оказаться у дома Виржини и убедиться, что ее там нет. Разочарованный, он все же позвонил в дверь для очистки совести, но ждал напрасно. Ужинала ли она в другом месте или возвращалась так поздно со строительства?
Он вернулся к машине, чтобы найти в «бардачке» бумагу и ручку, и присел на низкую стенку, огораживающую сад. Если он не будет торопиться, то найдет нежные слова,– это все-таки лучше, чем ничего.
Склонившись над бумагой, он задумался. Дорогая Виржини? Моя дорогая Виржини? Нет, это слишком условно и смешно. Однако просто Виржини еще хуже. После долгих колебаний он написал через весь листок: «Мне тебя не хватает» и уже собирался поставить свою подпись, когда услышал ее машину. Он тут же вскочил. А вдруг она не одна? Но уходить было слишком поздно.
Виктор смял бумагу и засунул ее в карман как раз в тот момент, когда Виржини вышла из машины и хлопнула дверцей.
– Ты меня ждал?
Тон был не очень-то любезный, а взгляд тем более.
– Я приехал наудачу,– сказал он тихо,– я сейчас уеду.
– Полагаю, ты спешишь?
– Нет, я...
– Да, да! Мужчины всегда очень спешат, это всем известно.
Виржини ослепило закатное солнце. Она приложила ко лбу руку козырьком и тут же отпрянула.
– О Господи! Это Пьер тебя так... Очень сожалею!
Поскольку он стоял против света, она заметила его швы, кровоподтеки и синяк на подбородке.
– Ты его не видела? – спросил он машинально.
– Пьера? Нет.
Виржини неподвижно стояла перед ним, не собираясь входить в дом. Он смущенно молчал, потом пробормотал:
– Ну ладно, я поеду...
Вместо ответа она продолжала молча смотреть на него, так что ему стало не по себе.
– Я должен был позвонить тебе раньше. Но я был очень занят, и потом еще твой приятель закатил скандал прямо у меня в нотариальной конторе...
– Он больше не мой приятель,– сказала она сухо.
– Во всяком случае, он все еще без ума от тебя.
– Ничего не могу поделать.
Секунду Виктор размышлял, сможет ли Батайе быть настолько сумасшедшим, чтобы убить кого-нибудь из ревности, и решил, что нет. Перейти к действию не так просто – и это счастье! Однако его мать не колебалась. Сможет ли он думать о чем-то другом?
– У меня очень много забот сейчас, Виржини. Как только дела пойдут лучше, я...
– Не утруждай себя, я поняла.
– Что?
– Ты ничего мне не должен, я тебе тоже. Тебе и приходить сюда не стоило, чтобы сказать мне об этом, это и так ясно!
Недоразумение превращалось в катастрофу. Он увидел, как Виржини ищет ключ в сумочке, и, не раздумывая, схватил ее за запястье.
– Подожди! Пожалуйста...
– Оставь меня в покое, Виктор! – крикнула она, вырываясь.
С остервенением набросившись на замочную скважину, она ворвалась в дом. Стоя у закрытой двери с бьющимся сердцем, она смогла наконец перевести дыхание. Ей ужасно хотелось расплакаться, но она справилась с этим желанием, глубоко вдохнув несколько раз. Если сейчас она «откроет кран», то потом не сможет остановиться.
Услышав шум отъезжающей машины, она повернула голову, но осталась на месте. Мотор не ревел, а работал спокойно. Виктор казался утомленным и, должно быть, думал уже о другом. Зачем она привязалась к нему так сильно? После нескольких совместных вечеров и одной ночи она потеряла всякую осторожность. К чему были намерения, воззвания? А ведь ей казалось, что с Пьером она все поняла.
– И первый же встретившийся на пути... Нет, какая я все-таки дура!
Из-за Виктора Виржини чувствовала себя глупой, смешной, ущемленной. Ей не хотелось принадлежать к той категории женщин, которым мужчины говорят: «Извини, дорогая, у меня очень много работы». С такими женщинами мужчины встречаются только тогда, когда выпадает свободная минутка, на ходу, чтобы удовлетворить простое желание. Но она не была «настоящей красавицей», белокурой куколкой, единственное достоинство которой – непроходимая, стопроцентная глупость, и не могла удовлетвориться любовником, налетающим, как сквозняк. А еще она не выносила жеста, которым Виктор пять минут назад схватил ее за руку. Этот жест как бы говорил: «Ты от меня не уйдешь, я пришел как раз за этим». Когда она пыталась порвать с Пьером – у него возникало такое же отношение собственника. Мысли об этом делали ее больной, и она постаралась отогнать неприятные воспоминания, пожав плечами. По крайней мере, Пьер не позвонил ей похвалиться, что разбил лицо своему сопернику, что означало, по всей видимости, одно: его физиономия была изрядно попорчена. А может быть, он потерпел поражение? Для такого драчуна, как он, достаточно этого унижения, чтобы вести себя спокойно.

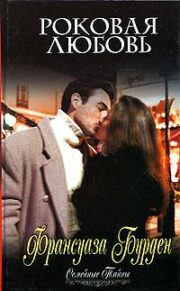
"Роковая любовь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Роковая любовь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Роковая любовь" друзьям в соцсетях.