Однако у крепостных ворот князя ждали, и как только он со своим отрядом приблизился к крепостному рву, разом ударили колокола церкви Горнего Николы, город ожил, и князю показалось, что благовестный звон единственного храма «есть знак самого Господа», что наступает, наконец, покой для его души. Стоявшие по обеим сторонам моста, вышедшие из крепости священники во главе с епископом Нафанаилом, державшим в руке золотой крест, громко пели славившие Бога псалмы.
Князь приблизился к мосту, слез, кряхтя, с телеги и оказался рядом с брянским епископом. Хлеба-соли не было. Владыка протянул руку и перекрестил склоненную перед ним голову постаревшего, поседевшего, сгорбившегося от унижений и скитаний на чужбине князя. – Благослови тебя Господь! – сказал он. – И желаю тебе сердечного добра! Прошу тебя, сын мой, не гневаться на свой город и простить своих обидчиков!
– А где же бояре? Почему не видно горожан? – тихо спросил князь, роняя крупные слезы. – Неужели никто мне не рад, и все стали моими врагами?
– А твои беспокойные бояре и горожане так напугались, – ответил епископ, жалостливо глядя на искаженное страданиями лицо Василия Ивановича, – что разбежались, кто куда! Однако это поправимо! Здесь нет ни молодого князя Романа, ни литовцев. Они ушли в Литву три дня тому назад…И оставили нетронутой всю твою казну…Так что садись на свой «стол» и прими с уважением свою верную супругу, которая с тоской и душевным страданием ждала твоего возвращения!
– Мой несчастный супруг! – выкрикнула, выбегая из-за спины отца Нафанаила, сорокалетняя красавица-княгиня. – Как же ты поседел, мой страдалец!
Священники опустили глаза: князь, который был старше своей жены всего на два года, выглядел перед ней дряхлым стариком!
– Ладно же, Оленька, – обнял жену брянский князь, – пошли в наш терем и будем налаживать нарушенную жизнь!
Уже на следующий день князь Василий, посоветовавшись со священниками и епископом Нафанаилом, без покинувших город бояр, принял решение извлечь из брянской казны все наличное серебро и расплатиться с татарами. Кроме того, в лагерь темника Нагачу были отправлены телеги с мясом, хлебом и бочками с пивом, вином, хмельными медами. Вся княжеская челядь была в полном сборе и усердно исполняла волю своего князя. В крепость по приглашению князя Василия прибыли татарский мурза Нагачу и его приближенные. Целых три дня праздновал князь свою бескровную победу и без конца благодарил татар. Помимо серебряных слитков, каждый знатный татарин получил от него по особому подарку – либо драгоценному перстню, либо серебряной чаше, либо иному дорогому изделию. В день отъезда татар не осталось и следа «от былых богатств славного Брянска». Все раздарил щедрый князь Василий!
– Будь же здоров, коназ Вэсилэ! – сказал на прощание темник Нагачу. – Я вижу, что ты добрый и щедрый! Обещаю, что если тебе еще понадобится моя помощь, я приду к тебе по одному твоему слову!
С уходом татар оживился, казалось, совсем притихший и поникший Брянск. Его жители стали возвращаться из отдаленных краев и лесов. Город вновь стал обретать свой прежний вид: застучали молотки кузнецов и топоры плотников на посаде, открылись купеческие лавки, потянулся дым из гончарных и литейных мастерских. Жизнь входила в свое русло.
…Прошло семь недель, и князь Василий, собрав духовенство в своей думной светлице, объявил о прощении всех своих обидчиков: и бояр, и простых горожан. – Еще я хочу, – сказал князь, – чтобы все убежавшие из города люди, напуганные татарским войском, вернулись назад и не боялись моего суда! Я понял, что был неправ и незаслуженно обижал своих подданных! Теперь все будет иначе! Я буду править по закону и справедливости! – Но едва он успел сказать эти теплые и благородные слова, встав со своего большого кресла, как вдруг княжеское лицо исказилось, его глаза, доселе спокойные и веселые, покраснели и вылезли из орбит, изо рта брызнула слюна. – Ах, какая лютая боль! – вскричал он, хватаясь ладонью правой руки за грудь и сползая, как куль, на пол.
– Господи, спаси! – прохрипел, волнуясь и не веря своим глазам, епископ. Он вскочил со своей передней скамьи и резво подбежал к лежавшему на полу бездыханному князю. – Какое горе! – простонал он, вглядываясь в почерневшее княжеское лицо. – Наш славный князь Василий скончался! Господи, прими же душу этого мученика в райские врата и прости ему все грехи!
– Аминь! – хором пропели потрясенные, дрожавшие от ужаса священники.
К вечеру уже весь город знал о случившемся.
– Сам Господь покарал этого Василия за дружбу с татарами! – говорили одни.
– Жаль этого непутевого князя! – бормотали другие. Но большинство горожан не сочувствовали умершему.
– Слава Роману Михалычу! – неслось по городу. – Слава могучей Литве! Будем вместе с Литвой против Москвы и поганых!
Огромная толпа собралась на вечевой площади близ церкви Горнего Николы.
– Теперь мы с Литвой заодно! – кричали брянцы, звоня в вечевой колокол. – Слава Роману Молодому!
ГЛАВА 11
ПОСЛАННИК БРЯНСКОГО ЕПИСКОПА
Ранней весной 1358 года митрополит «московский и всея Руси» Алексий принимал у себя, в скромной монашеской келье, великого князя Ивана Московского. Им было о чем поговорить! Прошлый год был тяжким и беспокойным. Мало того, что на самой Руси не было «тихости да порядка», и князья искали только повод для очередной междоусобной войны, не все было ладно с церковными делами: смерть косила епископов, поставленных Москвой, и митрополит едва успевал назначать очередных своих сторонников. Неожиданно летом в Москву прибыл посланник из Орды от ханши Тайдуллы. Последняя тяжело заболела, ослепла и так страдала, что была вынуждена прибегнуть к совету своей русской рабыни – вызвать из Москвы митрополита Алексия, как чудотворца, и излечить ее. Святитель был человеком глубоко образованным и практичным. Помимо книжных знаний, он обладал большим жизненным опытом, не кичился своими достоинствами и пытливо учился даже у простолюдинов навыкам излечивать больных. Он общался со многими знахарями, не только монастырскими, запоминал свойства целебных трав, умел составлять лекарственные настойки и мази. Призыв ханши Тайдуллы не обескуражил его. Он посоветовался со многими «знатными лекарями», подготовил необходимые лекарства, а затем, перед отъездом в Орду, провел торжественный молебен «у гроба святого Петра», подле которого зажег две свечи. Потом он «раздробил свечу для благословения народа» и выехал в далекую степь, взяв с собой «благочестивых людей», знавших врачебное дело.
Ханские же лекари, назначенные во дворец благодаря родственным связям и взяткам, могли вылечить только легкий насморк. Когда же они сталкивались с «неведомой болезнью», то полагались только на «волю Аллаха». Однако молитвы не помогли, и врачебные «светила» объявили, что «государыня обречена». Как только святейший митрополит прибыл в покои несчастной ханши, он сразу же понял, что болезнь не опасна, но сильно запущена, поэтому он дал ей укрепляющие, обеззараживающие настойки, и смазал ее глаза особой целебной мазью, приготовленной из трав. По совету митрополита Алексия ханские рабыни тщательно помыли свою госпожу, уложили на ложе и напоили успокаивающим «зельем».
Уже наутро выспавшаяся и посвежевшая Тайдулла почувствовала себя лучше, а через три дня прозрела и встала на ноги.
Выздоровление ханши было расценено в Орде как чудо. На русского митрополита смотрели как на волшебника и святого. Стоило ему выйти из усадьбы сарайского епископа для следования в церковь, как со всех сторон сбегались простые татары и услужливо, раболепно кланялись ему.
Это не нравилось сарайским муллам и подстрекаемым ими мурзам.
Тем временем в Орде случилось несчастье. Хан Джанибек, недавно покоривший «Тивирижское царство», получил известие, что там вспыхнул мятеж, и власть над беспокойной окраиной его ханства перешла в руки Джелаиридов – другой, враждебной ему, ветви Чингизидов. Он вместе со старшим сыном Бердибеком немедленно выступил в поход и, явившись в Азербайджан, разгромил своих соперников, занял Тебриз, а главного своего врага – Ашрафа – казнил. Оставив сына Бердибека в Тебризе, Джанибек-хан поспешил домой, поскольку наступало время приема русских князей с ежегодной данью. Однако по пути в Сарай он «крепко занедужил». В Орде ходили слухи, что несчастный хан был проклят казненным в Тебризе Ашрафом, и якобы по дороге ему явилось привидение в облике казненного, от чего он «помешался умом и взбесился». Русские же, проживавшие в Сарае, хорошо знали о пристрастии больного хана к «добрым грецким винам» и поэтому считали, что у хана был приступ «винной горячки».
Один из ханских приближенных, мурза Товлубей, воспользовавшись создавшейся ситуацией, объявил хана сумасшедшим, связал его с помощью своих слуг по рукам и ногам, а сам послал гонца к царевичу Бердибеку в Тебриз, призывая его немедленно приехать и занять престол. Когда же царевич, послушав совет своего давнего приятеля, прибыл к месту стоянки больного хана, Товлубей стал убеждать честолюбивого наследника, что «ему пора занять ханский трон, а батюшку – отправить в неведомый мир!»
В это же время Бердибеку сообщили, что его отец стал выздоравливать. Судя по всему, тяжелый приступ белой горячки проходил. Подстрекаемый Товлубеем, Бердибек не стал дожидаться полного выздоровления отца и, ворвавшись в ханский шатер, задушил его. В Сарай же послали Товлубея с верными людьми и сообщили, что «добрый государь Джанибек скончался от лютой хвори».
Неожиданная смерть довольно молодого хана вызвала переполох. Ордынская столица загудела, заволновалась. Придворные разом заговорили о многих претендентах на высшую власть: ведь от покойного Джанибека осталась двенадцать сыновей! Но Товлубей упредил нежелательное развитие событий. По его приказу, согласованному с самим Бердибеком, ханские палачи умертвили всех двенадцать сыновей покойного хана, не исключая даже грудного младенца! После этого Бердибек был торжественно объявлен новым «повелителем правоверных», и мурзы поклялись ему в верности.
Придя к власти, Бердибек стал насаждать свои порядки, окружив себя молодыми сторонниками и друзьями. Старые и опытные советники Джанибека были отставлены. В числе опальных вельмож оказался и мурза Сатай, который уже больше не приглашался в ханский дворец на совещания новой знати. Едва устоял и тайный советник покойного хана – Тютчи. Лишь потомственная слава, знание «государевых дел» и нескольких языков, позволили ему еще некоторое время оставаться на плаву, но хан Бердибек, не любивший «книжных людей», до последних своих дней относился к нему с некоторым презрением, редко обращаясь за советами по «важным делам».
Наслушавшись мусульманских священников и своих молодых неопытных приближенных, новый хан с недоверием отнесся и к целительным действиям русского митрополита Алексия, которого обвинили в чародействе и «злом колдовстве». Пришлось московскому митрополиту предстать перед целым собранием мусульманских богословов и выдержать тяжелейший философский диспут. Бесстрашный святитель Алексий сумел не только оправдаться, но своей «дивной речью», прекрасным знанием татарского языка, местных обычаев и традиций, завоевал еще большую славу среди татар. Не имея возможности победить его в споре и боясь растущего влияния русской церкви в Сарае, ордынский имам Мухаммад уговорил хана Бердибека не только беспрепятственно отпустить митрополита в Москву, но даже способствовал тому, что новый хан выдал ему очередной ярлык, освобождавший русскую церковь от ханских поборов.
Вскоре в Сарай прибыли с «выходом» многие русские князья, в том числе и великий владимиро-московский князь Иван Иванович. Богатые дары, привезенные из Москвы, сделали свое дело, и князь Иван Красивый вновь получил ярлык на великое владимирское княжение. Тем временем митрополит Алексий, выехавший из Сарая «посуху», а не по Волге, как ему советовал сарайский епископ Иоанн, подвергся нападению разбойников и был начисто ограблен. Злодеи похитили всю «казну», церковную утварь, дорогие одежды и даже кресты. Но высокий авторитет чудотворца спас жизни святителя и его людей: разбойники ушли, оставив несчастному митрополиту лишь его телегу с лошадью. Так и добрел до Москвы, «в голоде и нужде», первый человек «святой Руси».
Вот и беседовали святейший митрополит с великим князем Иваном, благополучно вернувшимся из Орды, вспоминая минувшие события. Обсудив прошлогодние дела и придя к утешительным выводам, поскольку титул великого владимирского князя Ивану Московскому удалось отстоять, собеседники перешли к последним новостям.
– Недобрые вести пришли из беспокойного Брянска, – начал митрополит.
– Это насчет смерти князя Василия? – пробормотал великий князь. – Об этом все знают…
– Его смерть еще не все, сын мой, – кивнул головой митрополит. – Не оправдались наши надежды на смоленских князей! Никто не захотел идти в Брянск: ни Святослав, ни его дети! А Иван, сын покойного Василия, оказался в литовском плену…Я слышал также от наших людей о болезни великого князя Ивана Александрыча. Этот старик, видимо, умирает!

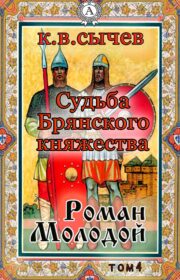
"Роман Молодой" отзывы
Отзывы читателей о книге "Роман Молодой". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Роман Молодой" друзьям в соцсетях.