— Здравствуйте, ваше Высочество! — прошептала Миллисент, погладив его за ухом. Он позволил ей эту вольность, зажмурив большие, удивительно синие глаза. — Как себя чувствует мой сладкий?
Миллисент еще раз погладила его и начала спускаться по лестнице. Первое, чего коснулся ее взор на улице, была вилла старой Белл, такая же тихая и пустая, как всегда. Было почти невозможно поверить в то, что вчера произошло в ее саду. Почти невозможно, но не совсем.
Это действительно было, все случилось на самом деле. Мужчина хотел купить дом Белл и переехать туда, и она успела выставить себя перед ним абсолютной дурой. Воспоминание о том, как необдуманно и глупо она вела себя, даже сейчас заставляло Милли краснеть. Каждый считает, что в возрасте двадцати девяти лет женщина должна хоть немного обладать здравым смыслом. Да и тетушка Ораделли как-то заметила, что удивлена быстрым взрослением Миллисент за последние несколько лет, тем, как ей удалось оставить в прошлом все ее неразумные выходки.
Вздохнув, Миллисент открыла калитку в невысоком заборчике, отделявшем ее сад от улицы. Утро было слишком хорошим, чтобы позволять воспоминаниям о встрече с Джонатаном Лоуренсом портить наступающий день. Она начала напевать какой-то мотивчик и даже размахивать в такт зонтиком.
В это время года воздух еще не был раскаленным от жары, а только приятно теплым, обещающим скорое наступление лета.
Листья на деревьях только-только распускались, зато в саду Хатауэев уже цвели розы: светло-розовые, ярко-красные и невинно-белые. Возле дома Морганов росло огромное дерево магнолии, верхушка которого касалась края крыши. Листва была темно-зеленая, и то здесь, то там на ветвях распускались огромные пышные белые бутоны, самая серединка которых была чуть тронута малиновым.
Миллисент всегда жила в Эмметсвилле, никогда не уезжала дальше Далласа, куда она с тетушкой Софи и кузиной Сьюзан наведывались в магазины.
Но она была твердо уверена, что нигде не существует места лучше, чем их маленький городок. Эммествилл всегда считался процветающим городом, даже задолго до того, как пятнадцать лет назад построили железную дорогу. До войны в него можно было добраться по Миссисипи. Расположенный всего в тридцати милях от Луизианы, Эмметсвилл был удобным портом; отсюда экспортировали хлопок и другую продукцию, получаемую на северо-восточных техасских фермах.
В отличие от большинства подобных маленьких городков, необжитых и необустроенных, в Эмметсвилле было проведено электричество и газовое отопление, выложена камнем мостовая Главной Улицы, на окраинах городка было построено мнбго аккуратных кирпичных домов и рабочих контор, а также многочисленных приятных на вид и даже по-своему элегантных особняков. Над мирно текущей речкой был разбит парк со скамейками для отдыха и столиками.
Но ничто из этих достоинств цивилизации не могло сравниться с прелестью природы Эмметсвилла. Его окружали сосновые леса; высокие стройные сосны росли везде, защищая городок от беспощадного техасского солнца зеленым балдахином, удерживающим прохладу, и покрывая землю мягким ковром хвои. Под высокими соснами теснились деревца пониже, большей частью дубы и орешник, кое-где магнолии, мимозы с их ровными и резными, подобно листьям папоротника, лепестками, которые от прикосновения стыдливо закрывались, и кизил с нежными распускающимися почками. В заболоченных местах у берега реки стоял большой шишковатый кипарис, поросший испанским мхом.
Словно вдохновленные красотой природы и ландшафта, жители Эмметсвилла выращивали в своих садах кустарники, деревья и яркие цветы так, что весной, казалось, город расцветал одним роскошным богатым бутоном. Миллисент не могла выразить словами всей силы, с которой эта красота воздействовала на ее чувства, к тому же ее рационализм и достаточная житейская практичность не позволяли даже пытаться это сделать, но она ощущала, как сжималось сердце при виде роскошной природы городка.
Дойдя наконец до Первой Баптистской Церкви — большого здания с мощным резным забором — она поднялась по ступенькам и направилась прямо к скамье Хэйзов. Вообще-то говоря, скамейка не принадлежала им, но члены клана Хэйзов так долго садились на одно и то же место и в одном и том же порядке, что эта скамейка стала считаться их постоянным местом: это было известно всем — как и то, что Слокумы всегда сидят в первом ряду слева.
Служба закончилась, и Миллисент задержалась поболтать с некоторыми знакомыми. Когда она направилась к тетушке Ораделли, остальные родственники уже скрылись из виду. Миллисент пошла побыстрее. Тетушка Ораделли не одобряла, если кто-нибудь опаздывал к ней на обед. А все знали, что она в семье была главной.
Мать тети Ораделли умерла, оставив совсем маленьких детей, и она, четырнадцатилетняя девочка, стала для своих младших сестер и братьев матерью. Даже после того, как их отец женился во второй раз, она все равно продолжала сама растить и воспитывать детей. Ораделли настолько растворялась в жизни семьи и заботах о ней, что никто даже не думал, что она может когда-то выйти замуж. Однако она вышла, правда, несколько позже, чем это бывает обычно, за Элмера Холлоуэя, вдовца с тремя маленькими детьми. Даже со своими новыми малышками на руках она не бросила сестер и братьев и продолжала по-прежнему оставаться главой семьи Хэйзов. Теперь, будучи маленькой, полной седой шестидесятилетней женщиной, она все еще наблюдала своим зорким оком за жизнью семьи, и ничего не происходило ни у Хэйзов, ни у Холлоуэев, ни в городке Эмметсвилле, чего бы не знала Ораделли Хол-лоуэй.
Миллисент подошла к большому, внушительному кирпичному дому, где жила тетя и ее семья, и постучалась в массивную дубовую дверь. Через минуту дверь открыла Камилла Холлоуэй.
— Кузина Миллисент! — Камилла улыбнулась как-то быстро и нервно, как она обычно делала, и протянула руки, будто собираясь обнять Миллисент, но вместо этого просто пожала ей руку. Жесты и предложения Камиллы часто были какими-то оборванными, незаконченными, будто она на ходу передумывала что-то делать или говорить; и что бы она ни говорила, на последних словах ее голос постепенно таял. Она была одной из дочерей мистера Холлоуэя от первого брака; сейчас ей было около сорока. Камилла давно стала «закоренелой» старой девой, которая до сих пор жила со своим отцом и мачехой. Все говорили, что она была утешением для родителей на старости лет, но Миллисент не была уверена, что она способна служить утешением хоть кому-нибудь. Тетушка Ораделли, скорее, была раздражена ее неустроенностью и нервозностью поведения, нежели утешена присутствием в доме.
Миллисент жалела Камиллу. Должно быть, нелегко быть падчерицей у Ораделли Холлоуэй. Миллисент всегда старалась относиться к Камилле с особой теплотой, за что та, казалось, была ей трогательно благодарна. Однажды, к изумлению Миллисент, Камилла заявила, что она ее самая близкая подруга. Если учесть, что Миллисент встречалась с ней очень редко, только на семейных вечеринках типа сегодняшней, то девушка никак не могла понять, когда же она стала считать кузину настолько близкой. Это доказывало еще раз, как крепко Камилла была привязана к дому и к родителям. Миллисент надеялась, что не станет старой девой типа Камиллы — именно такой. Несомненно, она была другая.
— Мама на кухне, — сказала Камилла абсолютно ненужную фразу. Где же еще может находиться тетушка Ораделли, как не в гуще суеты, в своем опрятном, без единого пятнышка, фартучке, руководя всем и всеми?
Как она и ожидала, тетушка Ораделли колдовала у огромной плиты, наливая и переливая какие-то жидкости из одних графинов в другие, в то время как одна из ее падчериц стояла рядом с длинным деревянным половником в руках.
— Соус, кажется, уже готов. Анна, нужно расставлять приборы!
Пожилая леди повернулась в поисках очередного объекта внимания и увидела входящую Миллисент и неуверенно следующую за ней Камиллу.
— Мама, кузина Миллисент… — начала было Камилла, но миссис Холлоуэй нетерпеливо оборвала ее:
— Конечно, она здесь… Как ты, дорогая? И как бедняга Алан? Почему он не пришел с тобой? — не давая Миллисент времени для ответа, она продолжала:
— Почему бы тебе не надеть фартук и не помочь Анне?
Затем она занялась расстановкой фарфоровой и серебряной посуды на длинном обеденном столе.
Камилла извиняюще улыбнулась Миллисент. как будто бы она сделала что-то дурное:
— Мама так активна для своего возраста…
— Да, — сухо отозвалась Милли, — и вдохновляет всех нас.
Она взяла лежащий на холодильнике фартук, повязала его, затем сняла корзинку с одной из многочисленных полок и насыпала туда груши.
— Положи их в вазочку с китайским рисунком, — сказала Анна, указывая на большую белую фарфоровую вазу, на которой была изображена в голубых тонах какая-то сценка.
Миллисент пересыпала груши, зная, что тетя Ораделли очень строго следит, какое кушанье надо подавать в той или иной посуде, и горе той дочке или падчерице, которая по невнимательности положит груши в вазу, предназначенную для диоскореи. Нет, она не будет устраивать скандала. Тетушка Ораделли никогда не устраивала сцен. Она просто нахмурится, вздохнет и скажет: «Нет, нет, нет, дорогая, не в фарфоровую посуду», или: «Нет, ради Бога, только не это блюдо», как будто каждая мало-мальски образованная женщина должна знать, что к овощам подходит именно эта ваза, и никакая другая. И подобный случай надолго засядет в памяти тетушки, заняв свое место в списке достоинств и недостатков данной женщины. Впоследствии, на каком-нибудь уютном семейном сборище, она со вздохом заметит: «Бедный Джон, не могу понять, почему он на ней женился; Анна просто не имеет понятия, как вести домашнее хозяйство».
Миллисент понесла вазу с фруктами в просторную гостиную. Стол, длинный, черный, сделанный из черного-орехового дерева, был покрыт ирландской льняной скатертью. Ораделли Холлоуэй любила лишний раз напомнить, что ее муж был богат, и что если даже она и вышла замуж несколько позже других женщин их семьи, зато ее выбор был удачнее.
Сьюзан, дочь тети Софи и дяди Чаба, сидела на одном из стульев и разбирала салфетки, а ее младшая сестра и одна из дочерей Ораделли суетились вокруг стола, расставляя хрусталь, фарфор и серебро. Сьюзан подняла глаза на вошедшего и, увидев, что это Миллисент, лениво улыбнулась.
— О, Милли! — голос ее был хрипловатым и низким, говорила она так же медлительно, как и двигалась, улыбалась или делала что-нибудь еще. Ее брови были слегка изогнуты и придавали лицу сонное выражение. И хотя она никогда не отличалась красотой, мужчины почему-то всегда находили ее привлекательной, а мух был влюблен в нее так же страстно, как и восемь лет назад, когда они поженились. Однако, она никогда не была кокеткой, как, например, Ребекка Конолли; ее отношения с мужчинами были непринужденными и естественными, как само дыхание.
— Как поживаешь? Кажется, не виделись с тобой тысячу лет! — Сьюзан отложила салфетки и протянула Миллисент руку. — Извини, что я не встаю.
— О, Боже, конечно же! Тебе незачем напрягаться. — Они обе старались избегать говорить о причине, почему Сьюзан оставалась сидеть в кресле: она была на седьмом месяце беременности, и в последние дни блузка откровенно оттопыривалась на ее круглом животе, и уже никакие ухищрения костюма не могли этого скрыть. Поэтому она большей частью сидела дома, посещая только семейные вечеринки, подобные сегодняшней. Через неделю или две, думала Миллисент, Сьюзан перестанет выходить совсем, особенно сейчас, когда погода стоит жаркая.
Миллисент присела в кресло рядом с ней. Разница в их возрасте составляла всего несколько месяцев, и сколько себя помнила Миллисент, Сьюзан была ее лучшей подругой — после Полли Крэйг, конечно. А когда Полли вышла замуж несколько лет назад и уехала из городка, Миллисент даже сильнее сблизилась со Сьюзан. У этой женщины был трезвый ум, и хотя она могла порой сказать что-то неслыханное, все же находиться с ней рядом было забавно.
— Как ты себя чувствуешь? — серьезно спросила Миллисент, начав заниматься салфетками вслед за Сьюзан. Эта была третья беременность ее подруги, но, к удивлению всех и самой Сьюзан, она чувствовала себя намного хуже, чем прежде.
Сьюзан пожала плечами и машинально разгладила складки блузки на большом круглом животе.
— Хорошо чувствую. Ты слишком беспокоишься.
— Ну, кто-то же должен беспокоиться! Тебе же самой нельзя.
Сьюзан хихикнула:
— Да и некогда. Я все время занята Фаннином и Сэми.
— Ты им не сможешь ничем помочь, если не будешь себя беречь, — заметила Милли, — что они станут делать, если ты будешь вынуждена слечь в постель?
— Ну, Милли… ты все принимаешь слишком близко к сердцу. Здесь нет ничего опасного. Просто в этот раз я переношу все по-другому, не так, как в предыдущие. Вот и все.
— Откуда ты знаешь?
— Просто знаю, — она замолчала, и загадочная улыбка чуть тронула ее губы, будто бы она знала какую-то тайну. — Я думаю, это означает, что будет девочка. — Ее сонные карие глаза ожили. — Правда, это будет прекрасно? Ты знаешь, я хотела сыновей ради Фаннина. Любому мужчине нужны сыновья. И я люблю их до смерти. Но они так скоро тебя покинут. А девочка — она будет всегда с тобой.

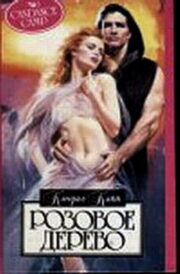
"Розовое дерево" отзывы
Отзывы читателей о книге "Розовое дерево". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Розовое дерево" друзьям в соцсетях.