Александр Донских
Ручьем серебряным к Байкалу
Первая часть
Дева
1
Лёва рос тихим, рассеянным, задумчивым мальчиком с большими удивлёнными глазами. Он внешне был послушен, исполнителен, зачастую даже робок. Однако с годами явственнее примечалось за ним, что он никогда не поступает так, как все или многие, что он с какой-то особенной, не для всякого различимой и понятной странностью.
– Тихушник-противленец, – неясно выразился однажды отец в присутствии сына и потрепал его по голове, жёстко и как-то с раскачиванием, будто бы хотел, чтобы она покатилась.
Но жена возразила мужу, притворившись, что не расслышала:
– Против ленцев, говоришь, Паша? Правильно ты подметил, хотя где такое чудное словечко выкопал – ленцы? Ты присмотрись, присмотрись к Лёвушке: какой у нас трудолюбивый сынишка! Да и лишнего слова не скажет, – ласково погладила она сына, который исподлобья и вкось поглядывал на отца.
– Он идеал! – усмехнулся и притворно зевнул супруг. Не стал спорить – деловито зашуршал газетой.
Павел Михайлович Ремезов, отец Лёвы, успешный строительный инженер, был видный, внешне лёгкий и весёлый мужчина. Мать же, Полина Николаевна, вечная домохозяйка с образованием медика, выглядела противоположной ему – какая-то притиснутая, раздражительная, она, можно было подумать, чем-то глубоко томилась. И мальчик с раннего детства чувствовал и догадывался, что мать и отец как бы не совсем родные друг другу. Потом он осознал, что они во взаимной холодности, если не сказать – во вражде, а их совместная жизнь в одной квартире тягостна и мучительна для обоих.
Однажды Лёва, находясь в соседней комнате, а родители не знали, что он там, нечаянно услышал беспощадные, страшные слова отца:
– Ты, Поля, думала привязать меня детьми? Не вышло! Не в любви родились наши дети. Чёрт возьми, столько лет, сто-о-о-лько лет я угробил на тебя, на это дурацкое, притворное супружество! Ты тогда заманила меня в постель, молодого, бестолкового самца, потом забеременела, а я, будучи на все сто наивным и честный человек, не бросил тебя. Но всего-то и нужно, чтобы жить по-человечески да в счастье, – любовь. Лю-бовь! Я, инженер до мозга костей, становлюсь, кажется, поэтом, – попытался он пошутить, но его голос перепадал и сминался.
– Ты бабник, и бежишь по-кобелиному за всякой юбкой. Правильно сказал – самец. Всё такой же самец, что и в молодости. А у меня уже не сердце – одна сплошная рана. Я до времени состарилась и обветшала. И ты, ты – мой мучитель, истязатель, кровопийца! Бежишь от меня и детей? Хорошо: беги, беги! Удовлетворяй свои низменные страстишки, свою похоть, кобель проклятый!
– Ты неправа, Поля. Какие ещё низменные страстишки, какая ещё похоть! Я потому и бегу, пойми ты, что нет любви между нами, нет духовного сродства, а оттого и жизнь наша мучение. Разойдёмся, и дела у обоих поправятся, вот увидишь.
– Какая может быть любовь или духовное сродство от кобеля? Ты подыскал себе молоденькую сучку – она младше тебя на двадцать лет! – и хочешь сказать, что у тебя любовь к ней, пацанке? Молчи, я ничего не хочу от тебя слышать! У нас трое детей, а ты теперь лепечешь о какой-то любви? К поэтам примазываешься? Да ты заурядный подлец, ничтожество, потаскун!
Мать разрыдалась. Лёва не выдержал: крадучись, на цыпочках выскользнул в дверь и побежал, куда глаза глядели.
Родители развелись. Поделили и имущество, и квартиру, и детей. Никита, отцов любимец, жил с отцом в его новой семье. А Лев и Агнесса остались с матерью.
У матери вскоре появился новый муж, – тучный, угрюмый, пожилой человек. Она, возможно, намеренно выбрала себе такого супруга – полнейший контраст прежнему, хотя сама была хороша, очень, говорили, хороша: тонка и изящна высокой фигурой, величественна и грациозна пышной причёской, притягательна и обаятельна чёрными большими грустными глазами. Она, несомненно, была интересная, редкостная женщина.
Как-то соседи судачили на лавочке, а Лев с балкона услышал:
– Смылся, говорите, к другой? И чего ему надо было: Поля-то вон какая краля. Да и врачиха.
– На молоденькое потянуло мужика.
– Говорят, молоденькая-то эта страшненькая и косолапенькая.
– Так ведь молоденькая!
– А может, любовь между ними.
– Ну, уж: любовь после трёх-то детей! Да и Полину как разлюбить?
– Бес их знает: чужая душа – потёмки, знаете ли.
Молоденькая – вот причина? Или у него настоящая любовь? – озлобленно спрашивал себя Лев. Он тосковал по отцу. Мысленно разговаривал с ним, прекословя ему, порой ругая. И ждал, отчего-то ждал его возвращения, хотя такое могло бы быть только явлением чуда.
А отец жил далеко, в другом городе, даже в другой области и за все годы ни разу не повидался с сыном и дочерью, не ответил на сыновние письма. Казалось, отрубил одним беспощадным взмахом какой-то невидимой, но отточенной секиры целую пору своей жизни и судьбы.
С отчимом Лев не сошёлся никак, но не дерзил ему, не грубил, а был холодновато вежлив, даже деликатен, хотя понимал, что отчим, кажется, человек неплохой – не глуп и не жаден, семьянин и трудяга.
И от матери Лев мало-помалу отошёл. Не в любви родились наши дети, – вот было то молчаливое и затаённое, что выросло призрачным, но плотным ограждением между сыном и матерью. Он появился на свет не от любви, но – от чего же? От тривиального соединения клеток? Какая мерзость даже такие мысли!
И временами Лев-старшеклассник презирал, ненавидел и мать, и отца, а то и весь белый свет.
Он стал рано влюбляться. Им, красивым, стройным, умным юношей, увлекались. Но он недоверял самому себе, своим чувствам, выводам и наклонностям. С девушками, с теми девушками, которые ему нравились, с которыми он танцевал на дискотеках, которых провожал, которых целовал, у него неизменно возникали напряжённые, отяжелявшиеся отношения, потому что в нём всякий раз начинали полнозвучно и требовательно свербить вопросы: та ли она? По любви ли он делает то, что делает? Не будет ли раскаиваться? Не сделает ли её несчастной? Не погубит ли своей жизни? А дети – в любви ли они родятся? Он не знал, от кого получить ясные, однозначные ответы.
И чувства к девушке в нём незаметно но неизменно настывали, обволакиваясь горьковатой, иной раз едкой мутью досады и ожесточения на себя.
Он сходился с другой, и вновь попадал в те же мрачные ходы и норы вопросов без ответов.
2
Однажды Лев нагрянул к отцу, чтобы – поговорить, чтобы – кое-что понять, чтобы, наконец, – напрямую спросить. Чтобы – пригасла, ослабла боль сердца своего беспокойного и тревожного.
Льву представлялось, что отец обрадуется его приезду: столько лет не виделись! Может быть, оставит его возле себя.
Но Льву – не обрадовались. Даже родной брат Никита мало и неохотно с ним общался, подолгу днями и вечерами, пока не уехал нежданный гость, где-то пропадал, а поутру незаметно исчезал из дома, чтобы, очевидно, лишний раз не встретиться с братом.
Отец был суховат и сдержан со Львом. О матери ни разу не спросил, будто и не бывало её на свете. Лишь про Агнессу справился, но так, без интереса, для приличия скорее.
Льва поразила и восхитила молодая супруга отца. Сам отец уже был морщинистый, сивый, сделался каким-то по-стариковски угловато-костистым. Она же рядом с мужем – совсем девочка, светлая, даже светящейся привиделась Льву. И имя – Светлана. Но – не красавица, отнюдь не красавица. Его мать как женщина несомненно роскошнее, – невольно сравнивал он. Что же эта Светлана? Нос – шишечкой, щёки – сдобные ватрушки, вообще вся толстоватая, талию не рассмотреть, и Лев отчего-то утешился, однако одновременно устыдился таких мыслей и чувств.
Без Светланы отец со Львом угрюм, несловоохотлив, брюзглив. Однако стоит ей войти в комнату – он улыбчив и общителен, можно подумать, вмиг молодеет. Мрачный, нравственно неподвижный, даже нелюдимый в своей прежней семьей – теперь же вслушивается в каждое слово супруги, всматривается в неё, быть может, хочет понять: то ли делает, то ли говорит? Лев злился, про себя называл отца старым мерином, артистом из погорелого театра, взвивал в себе сарказм и раздражение, но добрая и чуткая его душа сама собой противилась – и злость молкла, пряталась.
Отец всегда и раньше был сдержан и холоден со своими детьми от первого брака, и полуслова ласкового не припоминалось Льву. Теперь у него трое маленьких, подрастающих детишек – славные, смышлёные, ухоженные девочки. И что только вместе с ними не выделывает он: кувыркается, кормит из ложечки, уговаривает, баюкает, и Лев понимал, что его отец услаждается, торжествует, купаясь в этом своём состоянии отцовства, семьянина, наставника, друга.
Два дня Лев пробыл у отца и, уезжая, строго сказал себе, что когда-нибудь тоже создаст прекрасную семью, что возле него не будет ни одного горемыки, озлобленного, подавленного. А о Светлане подумал, что она – свет, что рядом с ней отец распрямляется, молодеет, живёт.
– Теперь ты нашёл свою любовь? – спросил сын, прощаясь с отцом на пустынной платформе железнодорожного вокзала.
Была осень, безучастно и чахло сыпался дождь. Садило мазутом и тленом тайги, которая обхватывала со всех краёв этот маленький сибирский городок, и его совсем не было видно за деревьями, сопками и дождём с лоскутами туманов. Лев зачем-то утягивал голову в куртку, будто зяб, хотя было ещё тепло. Рядом с ним и отцом не было людей, не было домов и деревьев, и небо не просматривалось, только лишь какая-то нечаянность мира – бесконечная железная дорога с обрубышем платформой, с маленьким облезлым вокзальчиком. Наверное, можно было бы подумать, что и сама жизнь есть некая нечаянность, некое недоразумение Вселенной, в которой так всё выверено, повинуется железным, но понятным законам, а жизнь – она вечно выпячивается с какими-то своими диковинными вопросами, маловразумительными претензиями, дерзкими поползновениями.
Отец приподнял торчащую волосками серую, старую, подобную ветоши, бровь, слабо, но с нескрываемой надменностью усмехнулся:
– Нехорошо чужие разговоры подслушивать. Мы с матерью всегда прятали от вас наши разногласия, но где же от тебя чего скроешь!
Помолчал, прикусывая губу. Сын прямо, возможно, дерзко, смотрел на отца.
– Про любовь спросил? Я знаю, ты переживал больше всех, что мы с матерью развелись. Но я не буду перед тобой оправдываться. Подрастёшь – кое-что сам поймёшь в этой жизни. Поймёшь, к примеру, что живём мы всего-то один раз. Всего-то один-одинёшенький разочек! И должен быть на вес золота каждый день и миг, иначе тебе, личности, – грош цена. Но как жить, если нет любви? Влачиться, врать? Я не захотел. Повезло мне – встретил Светлану. Чистую, юную девочку. Деву! Ей было восемнадцать, около девятнадцати, – всё одно ребёнок ребёнком.
– Неужели к матери у тебя совсем ничего не было? – пытался Лев заглянуть в подвижные, ускользающие глаза отца.
– Да отстань ты от меня со своей матерью! Вот ведь репей!
– Не отстану. Я должен знать, чтобы… – Лев на секунду задумался и чуть не по слогам произнёс: – Чтобы правильно жить.
– Правильно жить он собрался! Да что такое правильно или неправильно? Умник мне выискался! Святоша чёртов! Ну, отвечай: правильно или неправильно – что сие такое, что за редкие звери?
– Без роковых ошибок.
– Чего ты в меня впился взглядом, точно бы во врага народа? Да, да, мы с твоей матерью допустили эту самую твою раковую ошибку, – зачем-то исковеркал он мысль. – Ну так и что же теперь? Убиться и не жить? Чего ты от меня добиваешься? Сам не знаешь? Взбередил мне душу только. Что, я теперь до гробовой доски должен отвечать за грехи своей молодости? Посмотрю, каким макаром ты обустроишься, какой такой хитростью ты безгрешно проживёшь. Ишь, пра-а-а-вильный мне выискался! – сморщился и шутовски пропел он.
Сплюнул под ноги. Прикурил, обжигая пальцы огнём спички.
– Ты, отец, не обижайся на меня. Я ведь просто по-мужски хотел с тобой поговорить. Мне жить на свете. И кто меня наставит, как не ты?
– Ну, прости, прости.
– Зачем «прости», мы же не чужие друг другу. Кажется.
– Кажется, видите ли, ему! Креститься надо, коли кажется. Скоро поезд, – спросить-то ты чего ещё хотел?
– Спросить? Спрошу – обидишься.
– Да уж давай… руби. Мы, Ремезовы, люди откровенные и нехитрые, любим выкладывать сразу, чтоб, понимаешь ли, собеседника равно что обухом по голове, – мелко, тряско засмеялся отец.
Смутился, встретившись с неприкрыто ироническими глазами сына. Хмуро, гаркающе кашлянул в кулак.
– Отец мой, дед твой, Михаил Гаврилович, Царствие ему небесное, ведь чего вытворил по молодости? Любил правду-матку выплеснуть на человека, ушатом холодной, ледяной воды, да поковыряться, поковыряться до самого, о чём с усладой говаривал, корешка жизни. Ну, однажды и ковырнул: полюбопытствовал у своей матери, у моей бабки, Любови Фёдоровны: «Матушка, чёй-то я на соседа нашего, на Кузьму Захаркина, похож становлюсь. С чего бы? Или мерещится мне?» А Любовь-то Фёдоровна была ух какая женщина – ка-а-ак огреет его вдоль спины ухватом да ещё ткнула рогатиной в брюхо. Пару-другую рёбер, говорили, сломала. «Чтоб, сынок, не чудилось впредь! – ласково пояснила она. – А мамка твоя хотя и не святая, однако порядочная женщина». Почему, Лёва, не смеёшься? Невесёлая история? Так что ты хотел спросить у меня?

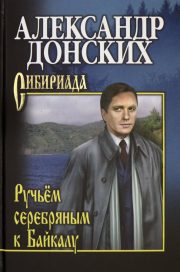
Отличный роман мирового уровня! Обидно женщинам читать — не читайте! Но для всех его чтением вдохновение к переменам внутри себя.