– Вот и продолжим, моя принцесса, веселиться! – И, по своему обыкновению, он подхватил её на руки и стал кружить, подкидывать, целовать. Лицо же его оставалось суховатым, подтянутым, будто от чрезмерных натуг.
Она не вывёртывалась, как обычно, не жалила, но стала молчалива, безрадостна, затаённо покорна. Лишь настойчиво выхватывала взглядом его лицо, пытливо заглядывала в глаза: что-то важное для себя силилась довызнать, допонять. Он сам опустил её на землю, открыто и пристально посмотрел в её лицо, без слов говоря: «Ты хотела что-то разглядеть в моих глазах? Что ж, смотри!» И она смотрела, даже всматривалась. И впервые обнаружила в его глазах, показалось ей, пыльную, к тому же вроде как залежалую присыпь. Теперь его глаза не могут видеть полноценно, ясно то, на что направлены? – быть может, подумала или почувствовала Мария. Такие глаза она однажды обнаружила у старого больного соседского кота; кот был вечно сонным, лежал днями и ночами под креслом в сумраке на лоснящейся подстилке, а встав – колыхался, плёлся с великой неохотой к миске или к коробу с песком.
Мария прижалась ко Льву – вспышкой, толчком получилось. Успела ли подумать, зачем так поступила, сознавала ли, что делает? И – впервые – прижалась крепко, цепко, как некогда в детстве, в минуты внезапного слепого страха, она притискивалась к матери или отцу. Те детские её страхи и боязни были отчасти понятны ей: услышала или увидела ли страшную сказку, столкнулась ли на улице с рычащей собакой, – да мало ли что ещё может испугать, устрашить ребёнка. А что сейчас напугало её, насторожило, всплеснув и растворив широко чувства, – не поняла. Смутилась, отвела книзу глаза, однако спросила прямо:
– Ты боишься людей?
Лев тоже отчего-то перед ней потупился.
– Нет. Я боюсь самого себя.
– Ты – лев, и можешь укусить самого себя?
– Смеёшься опять? Молодец.
– А ты хочешь, чтобы я заплакала?
И снова, снова не ответил он, своим тяжёлым молчанием оборвал, прискомкал разговор. Завалился животом, во всю длину тела растянувшись, на камень, закрыл глаза, молчал – казалось, показывал: вот что важнее – поваляться на солнышке, понежиться. Она посидела минуту-другую возле него, покусывая губу, угрюмясь, шумно выдыхая носом. Сорвавшись, убежала в дом. Бродила, уже до боли прикусывая губы, по пустынным комнатам. Легонько, но сжимая её в ладонях, отодвигала штору и зачем-то подглядывала за Львом. Он лежал, не шевелясь и будто не дыша, и в какую-то минуту ей привиделось, что он, в этой своей рабочей тёмной серой одежде, слился с камнем, возможно, окаменел и сам. Камень-тюлень стал выглядеть горбатым, судорожно изогнувшимся. И опять на Марию наскочила, как из-за угла, безотчётная глухая боязнь. Сбежала по ступенькам крыльца к нему, приникла щекой к его спине: быть может, проверяла, бьётся ли его сердце.
– Прости меня, мой ласковый зверь, – шепнула.
– Тебя тянет к людям, подальше от меня, потому что ты ещё не полюбила, по-настоящему не полюбила, – не повернулся он к ней.
– Меня тянет к людям, потому что я тоже человек.
– Так давай немедленно, вот прямо сейчас, уедем в город, я отдам тебя матери, и мы все продолжим жить по-старому, – отчётливо и холодно проговорил он.
– Нет! – вдруг закричала она. – Нет!
Заплакала горько, безутешно. Оттолкнулась обеими руками от спины Льва и прижалась щекой к камню. Лев рывком встал. Повалился к её ногам. Шептал, падая голосом до придушенного сипа:
– Прости, прости, моя прекрасная, моя принцесса. Я старый и глупый…
Она, вздёргиваясь сморщенным жалким личиком, нещадно прервала его:
– Ты не старый и не глупый, а ты – камень! Камень, булыжник! Вот такой же, как этот каменный увалень! Этот камень мне нравится, но он всего лишь только камень, хотя и похож на милого тюленя. И он не старый и не глупый, а просто, просто, повторяю, камень, дурацкий обломок вон той дурацкой скалы!..
Она оборвалась, зачем-то даже принагнула голову, испугавшись, что до такой степени жестоко обидела своего Льва. Посмотрела на него мокрыми угасающими глазами. Он весь поник. Не смотрел на неё, а взглядом – в землю, в камни.
– Да, я камень, никчемный осколок никчемной скалы, – сокрушённо покачал он головой. – Но я, Маша, когда-то был живым душой. Теперь окаменелый, чёрствый. Что ж!..
Замолчал. Сидел сгорбленно. Он знал, что она ещё не способна понять, отчего ему неуютно с людьми, отчего ему хочется быть только с ней, с любимой, с единственной. Он знал, что нужны долгие и разные – счастливые и не совсем, наверное, счастливые – годы жизни, чтобы она почувствовала его, как надо, стала, быть может, его соратницей по неприятию, но и любви, большой любви, этой жизни.
Мария, утешая, погладила его по голове, но погладила до того осторожно, будто касалась к горячему или колкому. Казалось, что она жалела Льва как малого ребёнка, и ему подумалось, что она старше его, что она уже знает больше и глубже о жизни, а он, если и знал что-нибудь такое, то забыл или растерял в противоборстве с самим собой, с людьми и с судьбой.
«Как жить?» – холодным, но вёртким змеёнышем наползал вопрос.
«Хватит вопросов! Надо когда-нибудь начать жить, просто жить. Просто жить! Как легко и приманчиво звучит – просто жить! Просто! Жить!..»
58
Позади лето, чудесное, жаркое, прошедшее в трудах и любви. Лишь во второй половины сентября дохнуло из распадков стужей и сорвались с небес, точно с привязи, дожди. Стало слякотно, серо, смятенно. За окнами метались и бились ветви деревьев, несло и кружило листву и былинки, пеплом сеялся снег; природа, возможно, навёрстывала и по своим скверным проявлениям, являя характер. Однако в доме Льва и Марии мир, тишина, деловито пощёлкивали электроболеры, таинственно шуршала в трубах горячая вода, нередко растапливался камин, золотисто-солнечно светились деревянные стены в комнатах, ультрамариново пробивался из дали туманов родной Байкал. В сердце Марии и Льва – чуткий, порой насторожённый покой, осознанная уравновешенность: та ссора у камня озадачила и даже напугала обоих, и они поняли – надо жалеть друг друга.
Мария уже студентка, и хотя студентка-заочница, заушница, слышала она, как дразнят таких студентов, но – столичной финансово-экономической аж академии. Она горда, что все экзамены сдала на высокие баллы, что поступила честно, без дураков, и полагает, что отныне уже совсем, уже окончательно и бесповоротно взрослая. Она за лето заметно подросла, поздоровела, в ней почти что уже сгладилась угловатая мальчиковатость, и она не по дням, а по часам становилась видной, красивой девушкой, лебёдушкой, девицей красной, – обращался к ней с ласковыми прозвищами Лев. Была прекрасна для него её маленькая, статуэточно изящная фигурка на тонких ножках, с тонкими ручками, с тонкой шеей, с тонкими пальчиками, с тоненькой талией. Но при этом Мария была сильна и крепка, никакого жеманства никогда не выказывала, не манерничала, не привередничала перед Львом, лишний раз подчёркивая свою хрупкость. Она была трогательно женственна, она вся была для него прелесть и идеал, и он блаженствовал, глядя на неё, общаясь с нею, думая о ней. И по-прежнему Льва особенно радовали и тешили глаза его Марии, приметливые, голубовато-бархатистые, но при этом напряжённо-ироничные, готовые прыснуть насмешкой и весельем. Они оставались для него глазами-радугой, глазами, являющими многоцветье её чувств, её мыслей. Возможно, эти чувства и мысли она пока ещё не может в полной мере выразить, но они уже правят её сердцем, а значит, был уверен Лев, и её и его судьбой. Когда Лев носил Марию на руках, а носил он её каждый день, часами не опуская, то ему минутами представлялось, что за его спиной схватывались крылья, и он сам себе казался невесомым. Стоит слегка оттолкнуться от земли – и вместе полетят, вознесутся. Он знал и радовался – это его сердце становилось лёгким, податливым, добрым, настоящим, всецело открытым для счастья, для их единой судьбы, которую он столь долго и мучительно ждал.
Что ещё необыкновенного произошло в Марии за лето? У неё отросли прекрасные взрослые волосы; Лев уговаривал её не обрезать их. Они казались ему, очевидно по подобию с её чародейными глазами, разноцветными, многокрасочными, радужными. Они раскидисто длинные, шелковисто тоненькие; и хотя каштаново-белёсые, но в искристой рыжине, будто посыпаны блёстками или сами источают блеск и сверкание. И шикарно курчавились, причём разнообразными завитками: и крошечными кокетливыми завитушками рассыпались на лоб, и крупными томными локонами ложились на плечи и грудь. А уговаривал Лев не обрезать потому, чтобы она была с косой, с настоящей косой, говорил он ей, русской красавицы. Мария поначалу не раз восставала, требуя остричься, называя такие волосы проявлением отстоя, деревенщины, лохини и даже дебилизма, однако Лев был неумолим, но неумолим с нежностью, с щепетильностью, с виноватостью какой-то. Нередко сводил к шуткам её страстное стремление быть как все: плешивенькой, говорил он ей, облезлой кощёнкой, кривлячкой, и как ещё не дразнился, придумывая смешные прозвища. Она притворно сердилась, отталкивая его, притопывая ногой, «но возможно ли скрыть сияние души, если глаза открыты!» – восторгался своей возлюбленной многоопытный, но по-прежнему и нередко юношески восторженный в своих чувствах Лев.
Они вместе заплетали и расплетали её волосы, и это становилось для них целым ритуалом вечером, когда расплетали и расчёсывали, и утром, когда, наоборот, расчёсывали и заплетали. Мария чувствовала – Лев по-особенному любуется ею с косой, что только с косой он считает её по-настоящему красивой, и она потихоньку примирилась, что у неё несовременные – обидных слов она уже не хотела употреблять – волосы, а через некоторое время так и желала, чтобы коса стала и толще, и длиннее. «Пусть будет как у мамы в её юности, на той девичьей её фотке», – порой с грустнотцой вздыхала она, мимолётно вспомянувши мать, отца и всю прошлую свою жизнь.
Началась учёба, подготовка к осенне-зимней сессии – каждодневное штудирование учебников с подробными конспектированиями, выполнение контрольных работ, решение задач, построение графиков и так далее и так далее. Куратор её, аж сам Лев Павлович Ремезов, как порой восклицала она в себе, был строг и бдителен, самолично проверял выученное и написанное, нагружал математическими задачами повышенной сложности, – не списать, не подсмотреть куда-нибудь. Во время занятий он требователен, сух, бывает даже язвителен. Ничего поддельного, никаких поблажек. Часть предметов она проходила интерактивно, дистанционно – с помощью образовательного сайта, получая платные консультации от ведущей профессуры страны. Несколько предметов преподавал Лев: он – математик, статист, экономист и ещё кто-то, и даже в английском разбирается отменно. Мария дивилась его познаниям, робела не на шутку, слушая его или отвечая выученное.
Когда же покончено с занятием – он по-прежнему нежен, податлив, раним. Мария про себя называет его ручным зверем, но не злоупотребляет своим влиянием на него. Напротив, она обходительна с ним, однако тайно ей хочется быть равной ему. И для неё очень, очень важно быть равной ему, она не хочет болтаться возле него какой-то там неравной ему по годам и развитию девицей, ученицей и вообще непонятно кем! Но Мария неуверенна, ей кажется, что она не умеет проявить себя перед Львом так, как, думается ей, могут и способны взрослые женщины проявлять себя перед своими мужчинами. Её огорчает и зачастую терзает, что она всё же ещё не совсем взрослая и что даже не умеет хотя бы притвориться взрослой, а значит, он не может принимать её за равную себе. Лев носит Марию на руках, порой шутливо баюкая, – ей кажется, что он не понимает, что она уже давно не грудной ребёнок. Он говорит ей ласковые слова, при этом утончая голос, – ей кажется, что он сюсюкается с ней. Он, бывает, уступает ей в споре, снисходительно усмехнувшись, – ей кажется, что он принимает её за дурочку. А то, что он строг с ней на занятиях, – да разве может любящий этак вести себя с любимой? Она зачастую впадает в отчаяние: мыслимо ли для неё стать равной ему!
Случается, в минуты крайнего раздражения, недовольства Мария спрашивает себя, любит ли она его. И тут же отвечает, что любит, конечно же, любит, не может не любить, потому что он красивый, сильный, умный и обожает её. И на его обожание, конечно же, невозможно не ответить привязанностью, нежностью, любовью. Но Марию смущает, что на этот свой тайный вопрос она отвечает торопливо, и задумывается: а не пытается ли она ускользнуть от какого-то своего внутреннего голоса, который хочет и может сказать ей что-нибудь другое, – нежелательное, неприятное для неё?

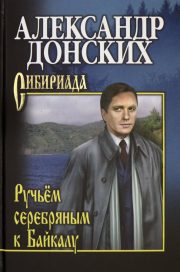
Отличный роман мирового уровня! Обидно женщинам читать — не читайте! Но для всех его чтением вдохновение к переменам внутри себя.