Иной раз – внезапный, будто чьё-то нападение, вопрос её души: а любит ли он её? Может, она для него всего-то какая-нибудь игрушечка-зверушечка, пушистый котёночек, с которым ему захотелось поиграться, а надоест – выбросит? И Марии представляется, что надо как-нибудь этак хитренько проверить Льва: точно ли он любит её, точно ли, как он беспрестанно говорит, она единственная для него, что она судьба его, жизнь его. Но как проверить? Ах, знать бы, как проверяют взрослые женщины! И она ничего не могла придумать лучшего, кроме как время от времени капризничать перед ним, даже привередничать до издёвочек. Могла неожиданно и дерзко повелеть ему: принеси-ка то, унеси-ка это. Он, улыбчиво хмурясь, внутренне скрипя, выполнял.
Случалось, вскрикивала, словно бы ужаленная:
– Отстань от меня!
Он терялся, даже пугался, ему становилось не до улыбок, он страдал. Но рассердиться не позволял себе на свою принцессу. Он думал: потому Мария капризничает, что ей, живой, деятельной, любящей общество, шум, смех, уже невыносимо скучно, неинтересно в этой глуши, вдвоём, всегда вдвоём. И старался всячески развлечь её, подозревая и свою немалую вину, и не желая ссор, и чураясь омрачать свою и её душу, и памятуя о том дне, когда она упрекала его за нелюбовь к людям, к общению.
Однако развлечений, после ежедневной учёбы и нескончаемых хозяйственных дел, бывало немного, и главное из них и обоими любимое – дальние прогулки по тайге и горам. Взбирались на скальники, рыбачили в озёрах и реках, заночёвывали в зимовьях, снимали фоторужьём, выходили к Байкалу. В походах Мария вновь становилась тем же прелестным, остроумным, любознательным, чутким, ласковым человечком. Она бывала очарована природой. По-особенному на неё влиял Байкал, в дали которого она любила подолгу смотреть, пытливо всматриваться. Становилась в такие минуты тихой, кроткой, потерянной. Лев не тревожил; сидел рядом, затаённый и восхищённый тем восхищением, которое испытывала его Мария.
Но дома, неделя-другая проходила, – снова её прихотливое, загадочное для Льва сердце забраживало, и она озадачивала и ошеломляла своими выходками и причудами. Он, нервничая, суетясь, придумывал новые развлечения. Однако дух Льва нередко тяжелел, он нравственно грузнел и пресекал эту свою деятельность. Ему в отчаянии начинало казаться, что он, зрелый мужчина, навидавшийся видов, нахлебавшийся и сладкого и горького, уже безнадежно стар и изношен для неё, столь молоденькой, безвинной девушки, а потому невозможно искреннее, настоящее чувство между ними. Что любви между ними не будет, а то, что каким-то чудом – или по недоразумению – вызрело-таки, тому погибнуть, зачахнуть рядом с ним, трухлявым пнём, а также помойной ямой потерь и неудач. Говорил себе, хмелея ревностью к воображаемым соперникам, что Марии для счастья нужен её сверстник, с которым она могла бы быть непринуждённой, самой собой, а с ним, со Львом, кто она – ученица, дочь его, помощница по хозяйству? Что и кто угодно она, но не жена ему. И сможет ли стать женой, подругой жизни, соратницей? Да и сможет ли он стать для неё чем-нибудь большим, чем учитель, умный, красивый, богатый мужчина? Пока же он, самоочевидно, – не муж, никакой он не муж ей! Не трудно догадаться, убеждает себя Лев, что в её сердце к нему – придуманная ею, да и то по принуждению с его стороны, игра во взрослую любовь, очередное развлечение жаждущего впечатлений и перемен отрочества. Прошли месяцы их совместной жизни – и игра очевидно обрыдла, хочется новой забавы, новых впечатлений, сюжетов, быть может, сказок или модных нынче фэнтези.
Снова вопросы, сомнения и ни одного вразумительного ответа, ни искорки ясности. Нет как нет покоя в сердце!
Лев обнаруживал за собой разные, незаметно цеплявшиеся за него странности: мог, заказав через Интернет для себя, по совету Марии, одежду, одеться как малохольный подросток: джинсы – мешком, съёженные гармошкой у стопы, нарочито заношенные, с дырами, с лохматинками, футболка – с кричащей надписью, навыпуск до колен. Ещё и ещё заказывал и одевал что-нибудь продвинутое, но явно свихнутое. Или мог часами – а раньше и минуты не выдерживал – слушать вместе с Марией этот по-дурацки вычурный, монотонный рэп, который ей очень – до писка и визга – нравился. Когда слушал, то пританцовывал, пощёлкивал пальцами: мол, смотри, Мария, я ещё способен оттягиваться, поверь, я – свойский парень.
«О, как же я глуп!» – злился он, осознавая своё поведение.
«Так нельзя жить. Она издёргалась, я сумасбродничаю. Но что предпринять? Что? Что? Не станет же она преждевременно старухой или, напротив, я не превращусь в парня».
59
Однажды, когда они по своему обыкновению прогуливались по гористым окрестностям, Мария – пропала. Только что была возле него и – нет её. Он – кричать, метаться. Вдруг слышит сверху, со скалистого уступа:
– Я прыгаю! Не хочу жить!
Лев мощными звериными прыжками стал взбираться на скалу. Он знал, можно было устремиться по отлого вьющейся тропе, чтобы зайти на уступ с безопасного тылу; этой тропой, видимо, и воспользовалась Мария. Однако пока оббежишь скалу – пройдёт с полчаса, не меньше, а ведь она заявила, что не хочет жить, что прыгает.
В кровь ободрал руки и лицо, ушиб колено, чуть не сорвался в пропасть, но чудом ухватился за корневище кустарника. Подбежал к Марии и – что же? Она, зажимая рот, хихикала. Но разглядела ссадины на его лице, изодранную одежду – потупилась, поджалась. Пискнула:
– Я пошутила, Лёвушка. Хотела проверить тебя. Прости. Ну, на – набей меня, дуру!
Он, сжимая зубы, подхватил её на руки и молчком понёс вниз по обходной тропе. Она заметила – у него шевелились крылышки носа, конвульсивно подрагивая тиком, раздуваясь; а сам он – всклоченный, страшный, что там! – дикий, как зверь. Таким она ещё ни разу не видела его. Испугалась, стала вырываться, отбиваясь ладошками, хныча. Но он держал крепко, прижимая её голову к своей груди, ступал твёрдо и шёл стремительно. Поняла – не вырваться, неоткуда дождаться помощи.
Что-то горячее капнуло на её лоб. Ещё, ещё. Напыживаясь и с великим неудовольствием хмурясь, она вывернула голову, чтобы взглянуть вверх: может быть, тёплый дождик пошёл или – что там такое? Но небо было ясным; оно обласкало её глаза голубым заревом. Смутилась, замерла, зачем-то прикрыла свои глаза, когда поняла, – Лев плачет.
Её Лев плачет. Только что был яростным, непреклонным, страшным, только что был зверем, а теперь – плачет. Плачет, как ребёнок. Она и не подозревала, что он, большой, сильный, жизнелюбивый, что он, мужчина, деловой человек, умница инженер, наконец, богач, способен заплакать. Она была заворожена и потрясена одновременно. Бедный её Лев! Бедный её ласковый зверь! Что с ним? – несмело пыталась она посмотреть на него, но он держал крепко, очевидно не желая, чтобы она, заглянув в его глаза, разгадала его печаль.
Его слёзы скатывались на лицо Марии, и она покорно принимала их, не в силах души своей закрыть и отвести глаза.
Он весь стал размякать, ослабивался его охват. Пошёл тише, осторожно; возможно, ему стало трудно различать эту чрезвычайно опасную петлястую горную тропку с обрывом по правой стороне. Мария, настырно вытянув шею, наконец, смогла полно посмотреть в его глаза. Они показались ей голубо и лучисто сияющими – сияющими нежностью. Она почувствовала, что его глаза – частички этого прекрасного неба. Крылышки носа, присмотрелась пытливая Мария, у него по-прежнему шевелились, однако уже иначе. Это шевеление ей что-то отдалённо и приятно напомнило. Напрягшись памятью, она вспомнила то, отчего едва не засмеялась: нос Льва напомнил ей нос кролика, которого когда-то в младенческом детстве она держала в руках. Тот кролик был чем-то напуган и, возможно, поэтому его нос шевелился дрожмя, судорожно. Кролик был смешон, но и трогательно жалок одновременно.
Марии захотелось погладить Льва, утешить его, как когда-то она гладила и утешала кролика. Она остро и совестливо поняла, что Лев тоже нуждается в ласке, в защите, в бережном к себе отношении, а она, психопатка, вредина, монстрик, мучила, истязала его последнее время, да и раньше ему доставалось от неё. Такой, оказывается, она ужасный человек.
– Милый, – шепнула Мария потерянным, едва слышным голосочком.
Она ещё ни разу не говорила ему ласкового слова, никогда не выказывала своей любви открыто, тем более первой, и в его объятиях всегда молчала, затаиваясь, никак не поощряя его, несомненно, стеснённая своим юным недоверчивым сердцем. А сейчас оно, пристыженное и потрясённое, близкое к покаянию, раскрылось само собой, порывом, и она невольно и нечаянно произнесла невозможное минуту назад для себя, – милый.
– Милый, – шепнула она ещё раз, но уже более осознанно и даже желанно, и не выдержала – заплакала, разревелась, сглатывая в слезах ещё какие-то нежные, невесть откуда пришедшие к ней слова, которых она, как и слёзы, уже не могла остановить. – Прости, прости…
Лев хотя и крепче, но предельно бережно прижал её худенькое тельце к себе. Она притиснулась щекой к его щеке.
– Знаешь, у тебя шевелится нос… как у кролика, – сказала-таки она о том, о чём ей очень хотелось сказать, и отчего она недавно едва не рассмеялась.
– Как у кролика?
– Ага.
– Ну, вот, докатился: рядом с тобой я превращаюсь в кролика. Сентиментального, наивного кролика. Ты же пока что не способна стать львицей, а мне кроликом, похоже, – плёвое дело.
– Не хочу быть львицей. Они хитрые и кровожадные. Хочу быть… хочу быть…
Но она запнулась, возможно, ещё не совсем отчётливо понимая по своей младости, кем и какой ей хочется быть. Лев помог:
– Мягкой и пушистой, как кролик?
– Да, да, да! Хочу быть кроликом, хочу быть кроликом! – И она сквозь слёзы засмеялась, по-детски легко и скоро забывая недавние свои переживания. Откинулась, будто сидела в кресле, раскрываясь вся солнцу и небу и Льву. – Мякиньким-мякиньким буду, пушистеньким-пушистеньким крольчишкой. Вот увидишь!
– Можно сказать, что теперь мы с тобой два кролика. Сейчас мы придём домой и дружно накинемся на морковку. Хрум-хрум, хрум-хрум! – И он тоже засмеялся, но туго и хрипло, пытаясь сломать своё гнетущее дурное расположение духа.
– Мы два кролика! Хрум-хрум, хрум-хрум! И живём в сказке. Хрум-хрум, хрум-хрум!
– Что там в сказке! Мы – в раю. Оглянись!
Они шли седловиной утёса, и сверху было видно далеко-далеко. Хвойная долина под ними изумрудно горела, переливаясь удивительными живыми оттенками. Ещё дальше угадывался Байкал; он, изумительный и невозможный, был единым с небом. «Не изгоняй нас, Господи, из рая», – неожиданно чего-то испугался Лев и зачем-то посмотрел на небо. Но солнце было настолько ярко и раскалено, что он тотчас опустил опалённые и ослеплённые светом глаза. Снова замутилось в них и пришлось ступать предельно осторожно.
– В раю? Ура, мы в раю! Хрум-хрум, хрум-хрум! Лёвушка, Лёвушка, миленький мой Лёвушка, но почему ты всё ещё плачешь?
– В романе могли бы написать: «Он плакал слезами счастья». Ты жива, ты со мной, мы вместе – вот я и счастлив. А счастье моё такое большое, что не умещается во мне. Рвётся наружу. Если бы не слёзы, мою душу и грудь разорвало бы. Как пар разрывает котлы, – усмехнулся он, смущённый высоким звучанием своих слов.
– Я тоже хочу плакать. С тобой. Слезами счастья.
Так и добирались до дома – смеясь и плача, смеясь и плача.
60
Жизнь после этого сумасшедшего, безрассудного, но прояснившего Марии её сердце происшествия понемножку зарубцевалась общей тишиной и взаимной покладистостью. Они друг друга щадили, может быть, становясь чем-то единым.
Лето позади; оно даровало обоим столько тепла, столько потрясающих переживаний, столько открытий сердца и ума. Сентябрь задался хотя и дождливым, холодным, но Лев и Мария своей жизнью словно бы высказывали природе: «Ну да и ладно! Что нам ненастье за окном! Мы вместе и у нас великолепный дом, он наше укрытие, наша крепость, наше гнездо». Однако в погоде случались и жуткие перемены. Видимо, где-то сталкивались тепло и холод, набирающая сил зима и остатки лета, нередко порождая штормовые, неистовые ветры. На дом набрасывался шквал за шквалом пыли, дождя, снега. Ветви хлестало по стенам и окнам, бывало, что ломало и валило лес. В воздухе, густом, чёрном, ужасно грохотало и трещало. Молнии порой били в скалы, воспламеняли сушняк и траву, и пожар не расходился только потому, что следом обрушивались вперемешку дождь и снег. Мария пугалась, жалась ко Льву. Он успокаивал её, но сам весь пребывал в тревоге и смуте: до чего же зыбка и переменчива всюду жизнь! Нигде, похоже, не избавишься от прихода и напора стихий и потрясений. Вспоминалась, как укор, яма-комната под чинновидовским гаражом, в которой он прятался от судьбы и людей, – становилось и грустно и противно одновременно и думалось: а этот огромный, подобный крепости дом – спасёт ли, если что?

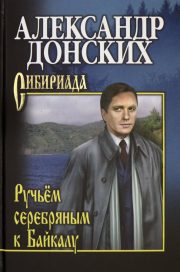
Отличный роман мирового уровня! Обидно женщинам читать — не читайте! Но для всех его чтением вдохновение к переменам внутри себя.