– Миг? Только миг?
– Не отчаивайся. Да, только миг, но миг – сейчас, потом – снова миг. За этим мигом – новый. И – дальше, и – дальше. Столько мигов счастья и добра, сколько отмерено каждому человеку судьбой и природой. Но – не мало, очень даже не мало. Знаешь, в песне, может быть, и говорится про один какой-то миг, но… но я, Маша, теперь так рядом с тобой чувствую жизнь: в мире всём – миллиарды миллиардов прекрасных мигов, порознь или вместе.
– Вспомнила, Лёвушка: я слышала эту песню, и слова немножко запомнились, а мотив, ну, просто в душу вошёл! Из «Земли Санникова» она, правильно?
– Знаешь?! Молодцом! Оттуда, оттуда! И фильм отличный. Что называется, на все времена. Люди искали необыкновенную землю и нашли её, несмотря ни на что.
Мария неожиданно запела, с трудом, но с блеском в глазах припоминая слова:
Призрачно всё в этом мире бушующем,
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь.
И Лев, потянувшись за ней по словам-ниточкам, повёл, знаток её, песню:
Вечный покой сердце вряд ли обрадует,
Вечный покой для седых пирамид…
62
И пели бы они дальше своими столь несхожими внешне – грудным тоненьким, как флейта, и хриплым баритонистым, как, возможно, саксофон, – но сплетёнными единым грустным нежным чувством голосами, однако – вновь взрывы уродливых, кажется, тоже под какой-то мотив, звуков с улицы, вернувшие Льва и Марию к настоящей жизни; оба вздрогнули, оборвали пение. Удивительно, но они успели за эти минутки жизни забыть, что кто-то там у ворот рвётся в их дом.
– Гх, забавляются, – едва раздвинул зубы, будто свело челюсть, Лев, с великой неохотой привставая, но усиленно зачем-то разминая пальцы рук. – Наверное, пьяные. Пугну-ка я этих гавриков из пушки.
Вынул из-под дивана всегда лежащий там на изготове револьвер, тяжёлым неохочим шагом направился к выходу. Мария, и всё ещё зачарованная словами песни, и напуганная сигналами с улицы, встрепенулась, когда он уже вышел:
– Не ходи, Лёвушка! Давай затаимся. Надоест – укатят. Так ведь уже бывало не раз, вспомни.
Он выглянул из-за двери, старался казаться спокойным и даже влёк губы к усмешке, однако Мария видела его разительно переменившееся лицо, – бледно испятнённое, даже несколько изрябренное натугами души:
– Но таких настырных, Мариюшка, ещё не бывало в наших краях. Нет, моя принцесса, придётся, однако, выйти и припугнуть. Не переживай. Я всего-то бабахну в воздух. Даже животные боятся оружия.
Они зачем-то, под влиянием какого-то вспыхнувшего единого для обоих безотчётного чувства глаза в глаза пристально, но коротко посмотрели друг на друга. Лев хотел, но не вышел через сенную дверь на улицу, задержался в дверном проёме и ещё раз взглянул на Марию: что-то особенное увиделось ему в её глазах, они сейчас не такие, как обычно. Какие же они? Они, несомненно, уже взрослые, они – женственные, они – женские, они – восхитительные. Но что-то ещё в них, что-то ещё такое народилось в их голубеньких глубинах за последние, наверное, минуты или секунды, миги, чего нет и не может быть ни у одной женщины мира сего!
– Мария, пожалуйста, не смотри на меня уныло и даже трагично: ты же не на войну меня провожаешь.
– Я тебя не провожаю, – произнесла она тихо и с заминкой. Но прибавила предельно строго и ясно: – Я тебя жду.
Она улыбнулась вздрогом щеки и неожиданно густо, просто огнисто покраснела; склонила голову, очевидно тая своё смущение. Он не помнит, чтобы она когда-нибудь настолько явственно тушевалась перед ним.
– Мне надо тебе кое-что сказать, – произнесла она шепоточком и, заподозрил Лев, неуверенно.
Взглянула на него и снова потупилась. Однако Лев успел увидеть в её глазах загоревшуюся радугу чувств, в которой он угадал и нежность, и тревогу, и – её обычное – лукавинку, и – совершенно не присущее ей – кротость. Но и что-то ещё было в её глазах, пока что глубоко, если не глубинно, скрытое и от него и, быть может, от неё самой. Столь многолико, противоречиво, загадкой её глаза ещё ни разу не проявлялись перед ним.
– Кое-что сказать?
– Да, очень важное.
– Важное для тебя?
– Для нас обоих.
– Для нас обоих? Скажи сейчас.
– Нет. В спешке не надо, нехорошо это, – непривычно для себя назидательно и важно сказала Мария.
– Я скоро.
Скрылся за дверью. Но, постояв в сенях во внезапно нахлынувшей на него нерешительности и сомнении, приоткрыл дверь в комнату:
– Я – мигом, Мария!
Лев не понимал, что с ним стало происходить: он весь внутри вспыхнул, в голове опьянело, перед глазами затуманилось. Он понял – не мог не понять! – что ему хотела сообщить Мария. Душа перемешалась, – и встревожился, и возрадовался одновременно. Но как важно теперь для него стало не скоро, не быстро, а мигом вернуться в дом, мигом вернуться к своей прекрасной Марии, к её глазам, к её улыбке, к её сердцу, к её голосу, вернуться ко всей их уютной, тёплой, до того неохотно выровнявшейся совместной жизни. «Есть только миг?» – зачем-то спросил он себя. Усмехнулся с нарочитым ожесточением, будто пытался отпугнуть вопрос: «Не надо нам только миг! Красивая фраза – и всего лишь. Нужна большая и счастливая жизнь вместе. И мы готовы к ней». Словно бы очнулся, осознав, что сигналили уже, было похоже, истерично, злобно, не прерывались подолгу. «Но люди, эти чёртовые люди, вечно-то вмешиваются! Не допекали бы, не разбудили бы во мне зверя!» – пытался он думать с весёлой насмешливостью.
Тщательно-плотно закрыл обе входные двери и вышел на крыльцо. В его глаза горячо, но ласково плеснуло закатным солнцем и небом. Чуть зажмурился, желая улыбнуться. Хотя день и вечереющий, но беспощадно яркий, дали беспредельные, вечнозелёные деревья густые, мощные, снега, белые до внеземной, какого-то не здешнего мира кипени, яростно искрятся, – всё здесь по-настоящему, всё крепкое, всё восхитительное, всё желанное и в то же время необыкновенное, вроде как даже несбыточное. А за дверями – она, она, его Мария. Он мигом вернётся к ней, как и обещал, и она смущённо, но и не без своей привычной смешливой лукавинки скажет ему о том, о чём он хочет от неё услышать. Но кто же там захотел расстроить тихое и желанное течение их жизнь, непонятно для чего прикатив в такую даль и беспрерывно, с очевидной дерзостью и издёвкой сигналя?
63
С крыльца через решётку заграждения Лев разглядел в салоне джипа братьев Сколских. Душа, на минутку расслабшая пред небом и далями, скомкалась и отвердела, как кулак. Когда-то, куражась и угрожая, братья обещались навестить, разобраться.
Сжимались зубы Льва, он едва выцеживал слова, когда неторопливо спускался с крыльца:
– Явились – не запылились, говорят в таких случаях. Ладненько. А ещё так говорят: живы будем – не помрём. Авось.
Не удивился братьям, не испугался их, но лишь прибавил в своём невольном монологе, правда, с морозящей кровь решимостью и готовностью:
– Если что, то…
Оборвал себя. Но что если что? Что то? Не захотел обдумывать: быть может, если обдумывать, взвешивать, прикидывать, то можно, кто знает, слабину дать, а он никого – ни-ко-го! – не боится и бояться уже не имеет права, потому что в доме его ждёт Мария его.
Он смотрит издали на братьев и ему вспоминается, как он когда-то сгрёб их за шиворот и вывел чуть ли не за ухо из своего рабочего кабинета. Потянуло засмеяться, захохотать. Что могут против него, крепкого, тёртого, к тому же вооружённого, что могут против него, льва, царя зверей, эти два мозглявых, недоразвитых и физически и, похоже, умственно подонка? Тощеватые оба, головёнки засохшие, маленькие, плечи умятые, рожы опухлые похмельные – дегенераты, пацаны, хотя обоим уже за сорок. Единственное, изловчатся, если вооружены, выстрелить первыми.
– Что ж… – сдвинул Лев за пазухой под курткой гашетку револьвера и покрепче сжал рукоятку. Он выученно знает, что лучше бывает первым напасть, чем ожидать и отбиваться.
Старший брат, Пётр, немножко благообразнее, посолиднее обличьем, чем младший, Сергей, выглянул в боковое оконце, выплюнул в направлении Льва докуренную и изжёванную на фильтре сигарету:
– Открывай, хозяин, ворота! Принимай гостей: будем отдыхать-веселиться.
– Проваливайте-ка, братцы-кролики.
– Обижаешь, начальник.
Оба вышли из джипа, с развалкой ленцой поразмялись, попотягивались, с наигранным равнодушием озираясь. Сергей, коротконогий, длиннорукий, с выпертой челюстью, истое подобие обезьяны, зачем-то тряхнул решётку ограждения, с притворной свирепостью уставился на Льва, брезгливо пошевеливая сигарету скошенными губами.
– Угадай, кто из нас в клетке: ты или мы? – спросил он.
Лев промолчал, но подумал: «Хм, да они, кажется, не глупы».
– Мы – с миром, – продолжал переговоры Пётр. – Пока с миром! Хотим, Лев Палыч, отдохнуть в родительской вотчине. Всего-то! Открывай, не упирайся!
– Здесь мой дом, а не чья-либо вотчина. Проваливайте, я сказал!
«А может… а может, уступить?» – вдруг сверкнула, пробиваясь через слои тяжёлых чувств, мысль и на секунду в груди ослабло, даже вздохнулось полегче. Конечно, можно, таким образом откупаясь и, несомненно, лавируя, впустить братьев: отдыхайте, мол, мужики, не жалко; гостевой домик выбирайте любой, баню истопите, продуктами поделюсь, бутылку коньяка поставлю. И немного деньжат можно будет всучить, чтобы отвязались на время. Почему бы не уступить, не умилостивить, а потом добропорядочно выпроводить? Видимо, не могли братцы не явиться: снова, уверен многоопытный Лев, они проигрались подчистую, по-глупому растратили деньги, наверное, уже последнее вытянули со своих злосчастных стариков и пригнало их сюда отчаяние и ожесточение. Понятно, что будут выклянчивать или же нахрапом требовать денег, снова обвиняя Льва в обмане, в хитрости, а то и в подлости.
«Уступи, уступи».
«Им? Мне? Уступить?»
«Уступи! Почему бы и нет? А потом – более менее спокойная жизнь. Будь гибче, хитрее, усмири свою спесь. Ты же вызнал человечью породу!» – говорил он со своей душой.
Но уступить, понимает гордый, упрямый Лев, означает не только запустить в свою жизнь этих ненормальных типов, да попросту мерзавцев, но и уступить всей той прежней жизни, от которой он скрылся, из которой убежал вместе с Марией. Всей той прежней жизни Лев не доверяет! Но самое важное – она, его Мария, беззащитная, слабая, неопытная: если уступит – не подвергнется ли опасности её жизнь, не пострадает ли её душа?
– Открывай, Лев Палыч, ворота, – видимо, приметив на лице Льва борьбу и смуту, в льстивой угодливости улыбнулся и принаклонился даже Пётр. – Говорю же тебе: с миром мы. Отдохнуть охота от трудов праведных и непосильных. Ну, чего застыл, точно памятник самому себе?
«Памятник самому себе? А что, толково сказал!»
И Лев вот-вот склонился бы, чтобы запустить братьев. Конечно же, не лишним было бы сговориться с ними, перехитрить их, чтобы они раз и навсегда или на очень-очень долгое время отвязались от него, забыли этот дом. Конечно же, не бесполезным было бы дать им немного денег. Чувства и мысли перемешались, и вот-вот заговорил бы Лев с ними, внешне мягчея, играя, запутывая следы. Однако пристальнее в прищуре недоверия тёртого человека взглянул на Петра и – неожиданно, во всплеске гадливости разглядел ощеренные в улыбочке мелкие желтоватые гнилые зубки зверька. Вспышкой озарения понял, и не усомнился ни на йоту, что в этой смердящей улыбочке отразилось торжество каверзности и нахальства всей той жизни. И тотчас порадовался, будто осветился внутри: не уступит, ни за что не уступит! Нельзя пятиться, нельзя сдаваться. Держаться до последнего, как в бою, как на войне. Всей мощью своей гордости и презрения придавил, скомкал в себе сомнения, оборвал борьбу. За пазухой рукоятку револьвера стиснул до боли в пальцах. Глыбой памятника перед ними всеми встанет, стеной – чем угодно, а не уступит, никогда и никому! И голос его разума не возразил совести души его, затаился, не стал уговаривать, приводя выгодные доводы.
Никак не отозвавшись на слова Петра, Лев повернулся к братьям спиной и с показной неторопливостью пошёл к дому. Он предполагал, что они способны выстрелить в спину, однако – ни единой жилкой нельзя выдать, что может чего-либо и кого-либо бояться. Тем более Мария его, по своему обыкновению, когда он с кем-нибудь говорит возле ворот, утайкой стоит сейчас у тюлевой занавеси и наблюдает за происходящим во дворе, ожидая своего любимого, волнуясь за него, а может быть, и любуясь им, гордясь, что он у неё такой смелый, решительный, сильный, что он защитник её и потому ей ничего не должно быть страшно в этом мире, что он, наконец, лев, её лев, царь зверей, её ласковый зверь.

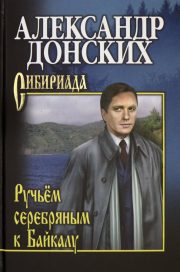
Отличный роман мирового уровня! Обидно женщинам читать — не читайте! Но для всех его чтением вдохновение к переменам внутри себя.