Запрокинув голову, Клементина тихо рассмеялась в ночное небо.
– Что? – спросил сидящий рядом молодой человек. Он потянул повод, и лошадь, высоко поднимая ноги, повернула за угол. Луисбургская площадь и дом отца исчезли навсегда, но луна осталась с ней.
Клементина снова рассмеялась, протянув руку с широко растопыренными пальцами к луне. Но та была вне досягаемости.
* * * * *
Клементина Кенникутт частенько думала, что если бы жизнь писалась как любовный роман, то ей было бы предопределено в конце концов выйти замуж за ковбоя.
На самом деле в своих фантазиях она сама гнала диких мустангов через пастбище, наводила прицел на бросившегося в паническое бегство буйвола и с криками преследовала зверюгу до самого Додж-Сити. Однако на все нужно смотреть прагматично. Даже в мечтах маленькие городские девочки не вырастали ковбойшами. Но вырастали, чтобы стать женами, и если... ну, только предположить... Но и такой вариант, как сознавала Клементина, немыслим для девушки, чей отец служил проповедником в храме Тремонт в Бостоне, штат Массачусетс. Девушки, чей образ жизни так же радикально отличался от ковбойского уклада, как головка сыра от луны.
Союз ее родителей представлял собой брак по расчету. Джулия Паттерсон принесла к алтарю наследство в пятьдесят тысяч долларов и дом на Бикон-Хилл. А преподобный Теодор Кенникутт — уважаемую старую бостонскую фамилию и свою набожность. Клементина являлась их единственным ребенком, и мистер Кенникутт хорошо понимал свой долг как родителя и как служителя Бога. Дочери – непрочные сосуды скудельные, жертвы тщеславия и неуравновешенности. Красивое лицо не отражает чистую душу. Никому не разрешалось холить, баловать или опекать маленькую Клементину.
Иногда, когда ей полагалось размышлять над своими грехами, девочка мыслями возвращалась назад, так далеко, насколько воспоминания могли унести ее, так далеко, что она еще не знала о ковбоях.
Наверное, ей было года четыре в то лето, когда дед взял Клементину в белильный цех и она увидела, какой может быть жизнь.
У дедушки Паттерсона было улыбающееся лицо, румяное, как переспелое яблоко, и большой живот, который постоянно трясся от громкого гулкого смеха. Отцу матери принадлежали многочисленные фабрики по окраске тканей, и в тот день он пригласил внучку и дочь на прогулку в деревню, где держал свою белильную: огромное кирпичное строение с изрыгающей дым трубой. Внутри громадные булькающие чаны испускали клубящиеся облака пара. Сотни труб опутывали потолок подобно паутине, и с них капало на голову. От испарений щипало в носу и слезились глаза. Мама сказала, что белильная напоминает ей ад с котлами, но Клементине она понравилась. Грохочущий шум, ужасная вонь, давка и сутолока – тут кипела настоящая жизнь. Даже сейчас, думая о полноте жизни, Клементина представляла ту суматошную зловонную белильную. Она сразу полюбила то место и с едва сдерживаемым волнением ждала, когда сможет снова туда вернуться, но так и не дождалась.
В любом случае то лето было магическим, поскольку мама много улыбалась и у нее начал расти живот, как у дедушки Паттерсона. Кухарка сказала, что миссис Кенникутт носит ребенка, но Клементина не верила в это до того дня, пока мама не взяла ее руку и не позволила ощутить толчок ножкой под туго обтягивающей выступающий живот желтой хлопчатобумажной тканью утреннего платья.
Клементина рассмеялась от удивления.
– Но как ребеночек смог попасть внутрь?
– Тсс! – поругала ее мать. – Никогда не задавай таких неприличных вопросов!
Тем не менее обе расхохотались, когда малыш снова толкнулся.
Клементина всегда улыбалась, вспоминая, как они с мамой вместе смеялись. Но у мыслей есть особенность перетекать из одной в другую, и в ее воспоминаниях смех перерастал в крики, шорох шагов по коридору посреди ночи и перешептывания слуг у двери детской, мол, жена преподобного, по всему видать, умирает, и уже утром маленькая Клементина станет бедной сироткой, лишившись матери.
Той ночью Клементина неподвижно лежала в своей постели, слушая мамины вопли. Смотрела, как растаяли тени и сквозь листья вязов в парке забрезжил солнечный свет. Улавливала чириканье воробьев, скрежет и грохот повозки с молоком. И вдруг крики прекратились.
«Утром», – как шептали под дверью. Утром ее мама будет мертвой, а она станет сиротой.
Солнце светило уже несколько часов, когда к ней пришел преподобный Кенникутт. Хотя он иногда и пугал ее, Клементине нравилось, как выглядел отец. Он был таким высоким, что, казалось, его голова доставала до неба. Длинная густая борода внизу раздваивалась, и концы закручивались кверху, подобно ручкам крынки. Борода была того же цвета, что и волосы на голове — блестяще-черной, как пролитые чернила. Глаза отца тоже сияли, особенно по вечерам, когда он приходил, чтобы помолиться с дочерью. Он говорил гулким голосом, напоминающим вой ветра в деревьях. Клементина не понимала всех благочестивых слов, но любила их звучание. Преподобный рассказывал, как каждый день Бог судил праведных и гневался на нечестивых, и она думала, что, должно быть, ее папа и есть Бог, ведь он такой большой и величественный, и ей очень хотелось порадовать его.
– Пожалуйста, отец, – сказала Клементина в тот день, стараясь держать глаза смиренно опущенными, хотя в груди щемило от нехватки воздуха. — Я стала бедной сироткой?
– Твоя мать при смерти, – ответил он, – а ты думаешь только о себе. Ты полна греховности, дочь. Полна такой дикости и своевольности, что иногда я боюсь за твою бессмертную душу. «Если же око твое будет худо, то и все тело твое будет темно».
Клементина вскинула голову и сжала кулаки.
– Но я чиста. Чиста! – В груди закололо, когда она посмотрела отцу в лицо. – И мои глаза тоже чисты, отец. Правда.
Преподобный глубоко и печально вздохнул.
– Ты должна помнить, что наш Господь видит все, Клементина. Не только наши деяния, но и сердца и помыслы. А теперь пойдем, нам нужно молиться. – Отец отвел ее в центр комнаты и, надавив на плечи, поставил дочь на колени. Поднял большую тяжелую руку и положил ее на голову Клементины, на простой грубый хлопчатобумажный чепец, который всегда покрывал волосы девочки, чтобы не дать ей поддаться тщеславию.
– Всемогущий Боже, если в твоем безграничном милосердии... – Он замолчал. Голова дочери не была опущена, как подобает при молитве. Преподобный надавил пальцами, но произнес мягко: – Твоя сестренка скончалась, Клементина. Она отправилась к небесной славе.
Клементина склонила голову под нажимом отца, обдумывая его слова. Она никогда не могла отчетливо представить себе царство небесное, но вспомнила, как мама сказала, что белильная похожа на ад с котлами, и улыбнулась.
– О, надеюсь, что нет, отец. Надеюсь, она отправилась в ад.
Преподобный резко отдернул руку от головы дочери.
– Что же ты за невоспитанный ребенок?
– Я Клементина, – ответила она.
В тот день Клементине запретили покидать детскую. За час до сна отец снова зашел и прочел ей из Библии об озере огненном и серном и о праведном гневе, который ожидает ее в смертный час, ибо милосердия она не заслуживает. Преподобный сказал, что даже согрешивших ангелов не пощадили, а напротив, низринули в ад, где им суждено страдать до скончания веков.
В течение последующих двух дней отец приходил снова и снова — утром, днем, вечером — и каждый раз читал ей об аде. Но не он, а занимающаяся верхним этажом горничная сказала Клементине, что мать будет жить.
Утром в день похорон малютки все зеркала и окна занавесили черным крепом, а залу усыпали цветами, которые наполняли воздух удушающим ароматом. Катафалк, запряженный лошадьми с развевающимися черными гривами, отвез крошечный гробик на кладбище Олд-Грэнери. Холодный ветер хлестал Клементину по лицу и кружил засохшие листья по надгробиям.
Сейчас она все знала об аде, и он не имел ничего общего с дедушкиной белильной.
* * * * *
Иногда мысли возвращались к той Пасхе, когда в гости пришли тетя Этта и близнецы. Мальчишки-кузены на семь лет старше Клементины только что вернулись из поездки в Париж, где приобрели миниатюрную гильотину. Клементина восторгалась, глядя на это чудо, поскольку ей было позволено иметь очень немного собственных игрушек, чтобы не отвлекаться от уроков и молитв.
Мальчики изъявили готовность продемонстрировать, как работает устройство. И она, довольная оказанным ей вниманием, заулыбалась от предвкушения. И по-прежнему улыбалась... пока они не поставили штуковину на стол, где Клементина утром ела кашу и пила молоко, и не отрубили голову ее единственной кукле.
– Пожалуйста, перестаньте, – сказала она, стараясь быть вежливой и не закричать, когда фарфоровая голова вяло отскочила от окрашенной в белый цвет поверхности. — Вы делаете ей больно. – Но кузены только смеялись, а жестяное лезвие снова со скрипом опустилось, и по полу покатилась отрубленная розовая рука.
Клементина не спешила, ведь ей было запрещено бегать. И не плакала. Серьезная в своем накрахмаленном переднике и чепчике, она беззвучно шла по большому дому в поисках кого-нибудь, способного остановить бойню, в то время как ее маленькая грудь содрогалась, а широко распахнутые глаза не мигали.
Из открытых дверей примыкающей к кухне маленькой столовой донесся живой смех. Клементина остановилась у порога, настолько очарованная, что забыла об убийстве куклы. Склонив головы над чашками, мама и тетя Этта колено к колену сидели в белых плетеных креслах. Тетя принесла с собой белые лилии, и их густой сладкий аромат смешивался с мелодией смеха и болтовни. Солнечный свет лился сквозь высокие окна, покрывая позолотой волосы матери.
Джулия наклонилась и схватила руку сестры.
– Тогда доктор Осгуд произнес своим хриплым голосом: «Если хотите жить, мадам, вы не должны больше пытаться заводить детей». Я и сказала мистеру Кенникутту, что если он не сможет договориться с совестью по поводу противозачаточных средств, ему придется согласиться на воздержание. Иное поведение фактически приравнивается к убийству, и это я тоже ему сказала. О, Этта, добрый доктор сообщил новость, будто это какая-то трагедия. Откуда же ему знать, какое огромное-преогромное облегчение я испытала? – Джулия рассмеялась и ссутулила плечи. Тетя Этта обняла ее. – Огромное облегчение! – зарыдала Джулия в пухлую грудь сестры. – Огромное-преогромное облегчение!
– Тише, Джул, тише! По крайней мере впредь ты будешь избавлена от его постели.
Клементина не поняла, о чем говорили женщины, но ей захотелось стать тетей Эттой! Отчаянно захотелось вот так же обнять маму, чтобы та улыбнулась. И ничуть не меньше она желала оказаться и на месте мамы, чтобы ее гладили, прижимали к себе и утешали. Чтобы почувствовать себя защищенной и любимой. Ей хотелось, хотелось, хотелось... У Клементины не было слов, чтобы описать свои желания.
На памяти девушки то был первый раз, когда она и ощутила их, эти страстные желания, которые по мере взросления посещали ее все чаще. Она отчаянно хотела, но не понимала, чего именно. И все чаще едва не задыхалась от сумятицы томительных чувств, названия которым не знала.
* * * * *
Клементина впервые узнала о ковбоях в девять лет. Это случилось, когда кухарка наняла новую судомойку. Ту звали Шона Макдональд, и она обладала волосами ярко-красного цвета, как пожарная вагонетка, и улыбкой, сияющей на лице, словно летнее солнышко. При первой встрече Шона опустилась на колени и прижала Клементину к груди в крепком объятии. Ноздри девочки заполнил запах лавандовой воды, от которого она едва не чихнула. Шершавые, потрескавшиеся от работы женские руки растерли плечики круговыми движениями. Затем Шона схватила ладони Клементины и откинулась назад, улыбаясь.
– Боже, какой же красоточкой ты вырастешь! – проворковала она. – В жисти не видала таких глазок. Прям как озеро ввечеру. Грозовые, зеленые, с думкой и с секретом.
Клементина пристально смотрела на женщину, очарованная ласковыми словами и сияющей улыбкой. Прежде ее никто никогда не обнимал, и девочке хотелось, чтобы новая судомойка снова потискала ее.
Клементина попыталась улыбнуться в ответ и спросила:
– А что такое озеро?
– Ну, озеро — это... очень-очень большая лужа, понимаешь?
Шона рассмеялась. Ее смех казался лепестками роз, сладкими и нежными. Клементина изучала блестящие черные носки своих туфель, боясь взглянуть, боясь задать свой вопрос.
– А вы не отказались бы стать моей подругой?
Сильные костлявые руки Шоны снова сжали Клементину.
– Ох ты, бедняжка, конечно, я стану тебе подругой.
У Клементины чуть не закружилась голова от счастья, которое накрыло ее после этих слов.

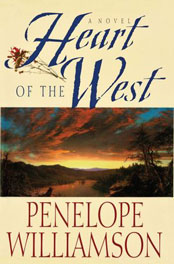
"Сердце Запада" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сердце Запада". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сердце Запада" друзьям в соцсетях.