По воскресеньям после полудня у кухарки был выходной. В этот промежуток времени между церковными службами дома было тихо, а Клементине полагалось проводить часы в молитве. Но вместо этого она проводила их на кухне со своей подругой. Своей подругой. Как же ей нравилось звучание этих слов. Она повторяла их про себя, когда спускалась по лестнице для прислуги. «Моя подруга, моя подруга... Я иду навестить свою подругу».
Шона питала страсть к любовным романам и большую часть своей скудной зарплаты тратила на еженедельные дешевые томики историй о Диком Западе. Эти выпуски представляли собой сокровищницу мечтаний, и Клементина не имела ничего против того, чтобы посвящать тайные воскресные встречи захватывающим книжицам.
Болтая ногами, Клементина сидела на крышке мучного ларя и вслух читала истории, изобиловавшие вооруженными ковбоями и дикими мустангами, злобными угонщиками скота и снимающими скальпы индейцами. Шона чистила медные кастрюли пастой из лимонного сока и соли, прерываясь, чтобы посмотреть на картинки и вставить замечание на своем картавом шотландском наречии.
– И кого волнует, прихватили ли того ковбоя с поличным на краже лошадей? Парень слишком пригож, чтобы его вешать. Ему нужна хорошая женщина. Жена, которая любила бы его и отвела от грешного пути.
– Я бы хотела выйти замуж за ковбоя, когда вырасту, – произнесла Клементина, чуть не дрожа от благоговения при этой мысли.
– Ох, а разве мы все не хотели бы, мисс Клементина? Но ковбои… они такие же, как дикие лошади, их мустанги. Слишком уж любят бродяжить – не сидится им на одном месте. Хотя в том, чтоб помечтать заарканить такого мужика, нет ничего плохого, совсем ничего.
Аромат лимонной пасты смешивался с другими кухонными запахами: дрожжей, кофейных зерен и соленой трески. Однако нос Клементины находился не в Бостоне, а в прериях, и вдыхал там благоухание полыни, буйволиных шкур и принесенного западным ветром древесного дыма.
Как-то в воскресенье Шоне дали выходной, чтобы она могла переправиться на пароме через реку Чарльз и побыть со своей семьей, живущей на другом берегу. Их обычные драгоценные часы общения Клементина провела на кухне одна. Она сидела за блочным столом, положив локти на выскобленную деревянную столешницу, а щеки – на запястья, и разглядывала коллекцию сувенирных карточек знаменитых бандитов и ковбоев, собранную Шоной. И мечтала.
Она не замечала, что в кухню вошел отец, пока его тень не упала на стол. Клементина попыталась спрятать картинки под кучей свежевыстиранных полотенец. Преподобный ничего не сказал, только щелкнул пальцами, вытянул ладонь и не убирал ее, пока дочь не отдала ему открытки.
Клементина пристально смотрела на столешницу, в то время как отец неспешно оценивал ее преступление, с шелестом перелистывая картинки по одной.
– Я доверял тебе, думая, что ты молишься, но вместо этого нахожу тебя здесь, разглядывающей это... это... – Отец сжал карточки в кулаках, и жесткий картон надломился и смялся. — Откуда они у тебя? Кто посмел дать тебе эту отвратительную мерзость?
Клементина подняла голову.
– Никто. Я их нашла.
Воздух начал дрожать, словно ветер ворвался в яркую от солнечного света кухню.
– Скажи, что написано в тринадцатом стихе двенадцатой главы Притч, дочь.
– «Нечестивый уловляется грехами уст своих...»
– Притчи, глава двенадцатая, стих двадцать второй.
– «Мерзость пред Господом – уста лживые...» Но я нашла их! Отец, правда. На заднем крыльце. Может, их оставил там старьевщик. Он постоянно засматривается на всякую отвратительную мерзость.
Преподобный больше ничего не сказал, только указал пальцем на черную лестницу. Клементина прошла мимо его вытянутой руки.
– Я нашла их, – твердо повторила она, не заботясь, что из-за лжи ее душа будет проклята и навечно отправлена в озеро огненное и серное.
В своей комнате Клементина встала на колени на стоящий у окна диванчик и наблюдала, как между вязами и над серыми плитами крыш спускаются и взлетают ввысь чайки. Солнечный свет медленно угасал. Со своим длинным шестом по улице шел фонарщик, и одна за другой позади него вспыхивали маленькие точечки света, напоминающие вереницу танцующих светлячков. Клементина услышала звук открывшейся и потом закрывшейся двери и стук каблуков по гранитным ступеням крыльца у входа для слуг. Над коваными перилами появилась потертая тулья соломенной шляпы, а из-под нее виднелась толстая красная коса, подпрыгивающая на покрытой выцветшей индейской накидкой спине. В натруженной руке уходящая держала дешевый бледно-желтый фанерный чемодан.
– Шона! – Клементина распахнула окно, крича вслед исчезающей в сумерках шали в зелено-голубую клетку. – Шона! – Она свесилась так сильно, что край деревянного подоконника врезался в живот. – Я ему не говорила! Шона, постой, я ему не говорила!
Шона ускорила шаг, перейдя почти на бег. Чемодан колотил ее по ногам. И хотя Клементина продолжала выкрикивать ее имя, подруга ни разу не оглянулась.
– Клементина.
Девочка повернулась, едва не свалившись с дивана. Над ней нависал отец, держа в руках трость.
– Встань и вытяни ладони, дочь.
Такое наказание он установил для самых страшных проступков. Три удара ротанговой тростью по ладоням. Это было ужасно больно, но Клементина раньше уже сносила такую муку и подумала, что сейчас не станет плакать. Не станет плакать, поскольку на этот раз она не раскаивалась.
Она вытянула руки ладонями кверху — они лишь слегка подрагивали.
Трость поднялась и опустилась, со свистом рассекая воздух, и хлестнула по плоти. Клементина покачнулась и чуть не прокусила губу. Но не вскрикнула. Палка оставила красный пылающий след.
«Моя подруга, – с каждым ударом повторяла про себя Клементина, – моя подруга, моя подруга». Слова звучали как заклинание. Или как молитва.
Закончив, отец с силой выдохнул и откинул волосы с глаз.
– А теперь на колени и проси прощения у Бога.
Руки горели. Клементина молча посмотрела на него снизу вверх немигающими глазами.
– Клементина, дочь... Лицо Всемогущего отвернулось от тебя, когда ты поддалась дикости своего сердца.
– Но я не сожалею! Я бы сделала это снова, снова и снова. Я не сожалею.
Пальцы преподобного так крепко сжали трость, что та задрожала.
– Тогда вытяни руки, поскольку я еще не закончил.
Клементина послушалась.
На пятом ударе – на два больше, чем ей когда-либо наносили – кожа лопнула. Все тельце девочки содрогалось, но она даже не пикнула.
Снова и снова трость хлестала ее по изувеченным ладоням. Клементина знала, что ей достаточно только закричать или взмолиться о прощении, но она не собиралась сдаваться палачу, никогда, и поэтому трость поднималась и опускалась, поднималась и опускалась, снова, снова и снова.
– Тео, остановись! О, Боже, перестань же, перестань!
– Не могу. Ради ее души я не должен останавливаться!
– Но она всего лишь ребенок. Посмотри, что ты наделал... Она же просто ребенок.
Сквозь сильный шум в ушах Клементина услышала крики. Непрекращающаяся дрожь сотрясала ее худенькое тельце. Ладони покрывали глубокие длинные порезы. Сочащаяся кровь забрызгала украшенный узором из завитушек ковер. Клементине казалось, что она чувствует резкий и острый вкус своей крови в глубине горла.
Мамины руки, запах роз... Клементине хотелось прижаться лицом к мягкой пахнущей розами груди, но она совсем не могла пошевелиться. Отец все еще крепко сжимал трость обеими руками, но слезы текли из его глаз прямо на бороду. А голос дрожал:
– «Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней». Каким же отцом я буду, если позволю упрямице и дальше идти этим порочным путем? Она сумасбродная и грешная...
– Но, Тео, ты зашел слишком далеко.
У преподобного вырвалось рыдание. Трость с громким стуком упала на пол, отец опустился на колени и воздел руки к небу.
– Иди сюда, дочь, мы должны молиться. Ад — это озеро огненное, которое никогда не будет потушено, однако я покажу тебе покаянный путь к Господу.
– Но я не сожалею, не сожалею! – выкрикнула Клементина. Но не заплакала.
* * * * *
– Я не хочу молиться. – Молитва означала сожаление, означала раскаяние.
Матрас прогнулся, а сюртук отца зашелестел, когда преподобный пошевелился и сел на постель рядом с дочерью. Клементина лежала на спине, вытянув руки поверх одеяла. Мама наложила мазь на ссадины и перевязала ладони, но даже ее слезы не заставили боль стихнуть. Однако девочка не плакала. Она дала себе обещание, что больше никогда не заплачет.
Отец заерзал и вздохнул.
– Дитя, дитя. – Он редко прикасался к ней, но сейчас накрыл щечку большой рукой. – Я все делаю из любви к тебе. Чтобы ты смогла вырасти чистой в глазах Бога.
Клементина посмотрела отцу в лицо. Она не верила ему: ведь не мог же он действительно любить ее, когда она оставалась нечестивой и полной дикости и ничуть об этом не сожалела?
– Я не хочу молиться, – повторила она.
Отец наклонил голову. И молчал так долго, что ей подумалось: он молится про себя. Но затем преподобный сказал:
– Тогда поцелуй меня на ночь, дочь.
Он склонился над ней, придвинув лицо так близко, что Клементина почувствовала острый запах его одеколона и крахмала на рубашке. Она приподняла голову и губами коснулась мягких черных усов на щеке отца. Опустилась на подушку и неподвижно лежала, пока он не вышел из комнаты, после чего принялась тереть рот тыльной стороной ладони и терла, пока губы не стало жечь.
Клементина вытащила из-под подушки потрескавшуюся и помятую сувенирную карточку. Снова и снова пыталась разгладить ее кончиками забинтованных пальцев. На нее смотрело улыбающееся лицо ковбоя. Ковбоя в рубашке с бахромой и широкополой шляпе, раскручивающего над головой петлю лассо, большую как стог сена.
Клементина глядела на него так долго и пристально, словно надеялась, будто приложив еще капельку усилий, сумеет как по волшебству вызвать к жизни этого мужчину, веселого и бесшабашного.
* * * * *
– Теперь ты взрослая женщина.
Так сказала мать в день, когда Клементине исполнилось шестнадцать. В то утро ей позволили заколоть волосы на затылке в большую гульку. Взрослая женщина. Она посмотрела на свое отражение в зеркале туалетного столика со скошенной кромкой, но увидела лишь себя. «Больше никаких чепчиков!» – внезапно улыбнувшись, подумала Клементина. Сморщив нос, она подняла головной убор, который надевала еще вчера, и бросила его в огонь. Больше никаких чепчиков. Взрослая женщина! Клементина повернулась на носочках и рассмеялась.
То был день ее рождения, он же канун Рождества, и Кенникутты собрались в фотогалерею, чтобы сняться на портрет. Походу придали вид семейной прогулки, и отец сам правил новой черной двухместной каретой. Белые шапки покрывали крыши и верхушки деревьев. Зимний воздух щипал Клементину за нос, колол щеки и пах праздниками: горящими дровами, жареными каштанами и хвойными ветками.
Они проехали парк Коммон, где по покрытым коркой льда дорожкам катались на санях дети. Одна девочка, должно быть, зацепилась за корень дерева, поскольку ее санки внезапно остановились, а она сама продолжила катиться кубарем, маленьким вихрем из голубых юбок, красных чулок и летящего снега. Ее пронзительный смех отражался от плоского зимнего неба, и, о, как же Клементине хотелось быть этой девочкой. Она желала этого с невыносимой болью, которая давила на сердце, словно груда камней. Клементина никогда не ездила на санках, никогда не каталась по льду на пруду Джамайка и не играла в снежки, а теперь стала слишком старой для этого, стала взрослой женщиной. Это заставило Клементину задуматься, чего она уже лишилась в своей жизни и чего лишается сейчас.
Отец остановил карету, чтобы пропустить повозку с пивом, пересекающую дорогу впереди. В полукруглом окне углового дома в кольце желтого света газовой лампы стояли женщина и мальчик. Мать положила руки на плечи сына, и они вместе наблюдали, как падает снег. Сзади к ним подошел мужчина, и женщина подняла голову, оборотив к нему лицо. Клементина затаила дыхание, ей показалось, что мужчина собирается поцеловать любимую прямо там, в окне, чтобы увидел весь мир.
– Клементина, ты пялишься, – одернула ее мать. – А леди не пялятся.
Клементина откинулась на кожаную спинку сиденья и вздохнула. Душа саднила от беспокойной тоски. Ей не хватало чего-то в жизни, не хватало, не хватало, не хватало... Она подумала, что лучше уж вовсе не иметь сердца, быть безжизненной и сухой как ветки зимой, чем мучиться от этого постоянного неизбывного стремления к чему-то неизвестному, безымянному. Недостающему.

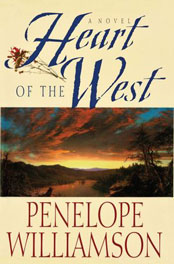
"Сердце Запада" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сердце Запада". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сердце Запада" друзьям в соцсетях.