В первой комнате широкое окно было закрыто длинной шторой, здесь воздух был несвежий, спертый. Обстановка была простой: диван, один маленький кухонный стул и два стула с прямыми спинками, а также добротный письменный стол и возле него — вращающийся деревянный стул. На столе лежала стопка бумаги. Я закрыла дверь, прошла через комнату и дернула за кисточку, чтобы открыть штору. Бледный свет залил комнату, и в тусклых лучах стали видны летающие повсюду пылинки. Я попыталась поднять раму как можно выше, чтобы впустить свежий воздух. Зашуршали листы бумаги на столе, но зато стало легче дышать.
Через открытую дверь я увидела в следующей комнате аккуратно застеленную махровым покрывалом кровать.
Сев на стул перед письменным столом, я дрожащими пальцами перебрала листы бумаги. Но это были всего лишь перепечатанные страницы учебника по заболеваниям горла. Я выдвинула правый ящик стола. Он был пуст, если не считать очков. Я вытащила их и провела пальцем по тонкой оправе. Потом представила, как Этьен сидел здесь и непроизвольно постукивал пальцем по дужке очков во время чтения.
— Этьен, — прошептала я в пустоту комнаты, — где ты? Что с тобой произошло?
Я положила очки на стол и начала выдвигать другие ящики. В них обнаружились только обычные письменные принадлежности: скрепки, полупустая банка с чернилами, несколько карандашей с обгрызенными кончиками.
Я заглянула под стол, где стояла мусорная корзина. В ней валялись скомканный клочок бумаги и небольшой пузырек с таблетками. Я расправила листок, но это оказалась всего лишь обертка от мятной конфеты. На пузырьке было написано длинное и труднопроизносимое название лекарства — оксазолидинедион — и то, что оно назначено Этьену. Мне были знакомы пузырьки, в которых находились таблетки от головной боли — обычное обезболивающее, как он говорил, — и еще со снотворным. Были еще одни таблетки, которые он иногда принимал, перед тем как выйти из моего дома утром. «Чтобы оставаться собранным на протяжении всего такого долгого дня», — небрежно говорил он. Но этого пузырька я никогда раньше не видела.
Я положила очки и пузырек в свою сумочку. Мне нужно было что-нибудь — что угодно, — когда-то принадлежавшее Этьену. Затем я откинулась на спинку стула и закрыла глаза из-за неожиданно нахлынувших усталости и отчаяния.
Мне очень хотелось уйти, но я понимала, что должна зайти в соседнюю комнату. В открытое окно врывался прохладный ветер. В этой комнате были только кровать, комод и шкаф. Я снова выдвинула поочередно каждый ящик комода. Ничего. Как и комод, шкаф тоже был пуст, но когда я уже повернулась, чтобы уйти, то заметила на полу книгу. Это была книга одного известного американского акварелиста, которую я подарила Этьену на Рождество. Он не единожды говорил, что ему не хватает знаний о другой стороне жизни, противоположной науке, и хотел узнать о ней больше. Непонятно почему, но, увидев эту книгу, оставленную здесь — брошенную, — я ужасно расстроилась, опустилась на колени и уставилась на нее. Я подняла ее и провела рукой по обложке. Маленький кончик бумажки, вложенной между страницами, закладка, как я предположила, чуть-чуть выглядывал. Я открыла книгу в том месте, где лежал этот сложенный лист бумаги; он был таким тонким, что написанное просвечивалось.
Все еще стоя на коленях, я бросила книгу на пол и развернула листок; его явно сначала смяли, а потом расправили. Текст был написан по-французски хорошим тонким пером, и по изысканному почерку было ясно, что написано это женской рукой.
Я сразу же опустила взгляд на подпись в нижнем углу — там было только имя. Я держала листок обеими руками. Как и на лестнице, кровь пульсировала у меня в ушах. Я почти не дышала, впившись взглядом в письмо. Мои руки и вся спина были влажными, шерстяное платье прилипло к телу, несмотря на то что в комнате было прохладно.
«3 ноября 1929 Марракеш
Мой дорогой Этьен,
Я все равно пишу тебе снова. Хотя ты и не ответил на мои предыдущие письма, я еще раз и с еще большим отчаянием заклинаю тебя не оставлять нас. Я никогда не переставала надеяться, что после того, как прошло столько времени — уже больше семи лет — с тех пор, как ты был дома, ты сможешь в своем сердце (твоем добром и любящем сердце) простить меня.
Я не сдамся, мой любимый брат. Пожалуйста, Этьен, возвращайся домой, в Марракеш, ко мне.
Манон»
Тонкий гладкий листок бумаги дрожал в моей руке.
Манон.
Возвращайся домой, писала она, в Марракеш.
Я снова опустила глаза на письмо. «Мой любимый брат», — написала она. И еще: «Прошло уже больше семи лет». Манон — его сестра… но… когда я спрашивала его о семье, он говорил, что у него был только брат Гийом, разве нет? «Для меня не осталось ничего и никого в Марракеше», — сказал он.
Слишком много секретов. Слишком много того, чего я не понимала. Это ли он имел в виду, пояснив в больнице, что едет домой по семейным обстоятельствам? Неужели он уехал, не сказав мне ни слова, — бросил меня, как книгу, — из-за своей сестры?
— Вы нашли портфель? — послышалось за моей спиной; я повернула голову и увидела пару крепко зашнурованных туфель.
Я подняла глаза. Женщина в коричневом платье внимательно смотрела на меня сверху вниз.
Сжимая в руке письмо, я с трудом поднялась.
— Нет, — сказала я и прошла мимо нее.
Когда я, прихрамывая, тяжело спускалась по ступенькам, держась за перила, она крикнула мне вслед:
— Как, вы сказали, вас зовут?
Я не ответила и оставила дверь открытой.
Я не понимала даже сейчас своего отчаянного желания попасть домой. Я бежала, словно кто-то гнался за мной по пятам, и знала лишь, что хочу оказаться в безопасности, в родных стенах, где я расправлю письмо и буду перечитывать его снова и снова и попытаюсь разобраться во всем.
Это письмо было моей единственной зацепкой.
Этьен. Я все больше и больше убеждалась, что совсем не знала его.
Глава 15
Никто никогда не ожидает, что может потерять кого-то.
Когда умерла моя мама, я оплакивала ее, тихо скорбела, и это было в порядке вещей. Хоть мне и не хватало ее, я знала, что буду продолжать жить как раньше, присматривать за домом и отцом. Это была неминуемая смерть, и я интуитивно понимала, что со временем печаль уменьшится, а потом и вовсе пройдет.
Когда умер отец, я ощущала не только боль утраты, я буквально обезумела от чувства вины и отчаяния; я снова и снова прокручивала в голове моменты, когда настаивала на том, что поведу машину, когда на какой-то миг отвлеклась от дороги и вывернула руль слишком резко. Самым ужасным было то, что я никогда не вымолю его прощения, а еще то, что я так и не попрощалась с ним. Я оказалась в полнейшем одиночестве после его смерти, трагической и непредвиденной.
Но теперь… Когда я вечером возвратилась на Юнипер-роуд, то ощутила ужасную боль. Она накатила тяжелой волной, сделала меня слабой. Мои ноги не хотели нести меня, и я вынуждена была взять такси, чтобы добраться до дома. Мной овладело смятение. Я легла на кровать и уставилась на длинные тени.
Я знала, что Этьен любил меня. Он хотел быть со мной и с нашим ребенком. Я снова и снова прокручивала в голове наши с ним встречи, пытаясь вспомнить что-нибудь упущенное мной. Я отчетливо представляла, как он смотрел на меня, как говорил со мной, как смеялся над чем-то сказанным мной. Как он прикасался ко мне. Я вспомнила тот день, когда я видела его в последний раз, то, как он положил свою руку мне на запястье и сказал, что я буду петь песни нашему ребенку.
Нет. Я выпрямилась в темноте. Он не поступил бы со мной так жестоко. Он ни за что не оставил бы меня таким образом. С ним что-то случилось, что-то из ряда вон выходящее. Я должна узнать эту тайну, а может быть, даже не одну.
Он не мог сделать ничего, что я не смогла бы простить. Я бы простила ему все. Он должен знать это.
Когда я встала утром, мое тело закоченело, меня морозило, а голова была такой тяжелой, словно я не могла до конца проснуться от ночного кошмара.
Я переживала так же, как после смерти отца. Весь день я бродила по комнатам с каким-то странным и бередящим душу ощущением, что мне нужно сделать что-то, но я была не в состоянии определить, что именно.
Воздух в студии был сырым, холодным, здесь ощущалась какая-то отчужденность. Я ничего не рисовала уже почти месяц — я была слишком увлечена моей новой жизнью и мыслями о будущем с Этьеном.
Я почувствовала едва заметное движение позади меня — это Синнабар направлялась к моим ногам, а затем прыгнула на стол с принадлежностями для рисования. Она уселась, подогнув передние лапки под себя, и уставилась на меня своими большими темно-желтыми глазами. Она стала уже совсем старой, ее бедра усохли, выпирал каждый позвонок. Ее шерсть утратила былой насыщенный медный оттенок, сейчас она была бледно-коричневой.
Последние мои рисунки были приколоты к стене. Они были аккуратными и утонченными, написанными, как однажды заметил Этьен, точной, недрогнувшей рукой; каждый мазок был продуманным и уверенным.
Неожиданно меня стали раздражать мои работы и я сама, потому что я превратилась в женщину, которая позволяла себе просто жить. Которая решила, что крошечного кусочка земли, меньшего, чем кончик булавки, достаточно для жизни.
Синнабар засыпала, положив голову на лапы, ее глаза были полузакрыты.
«И вот я стою, — подумала я, — и наблюдаю за стареющей кошкой». У меня не было ни законченного образования, ни житейского опыта. И хотя Этьен называл меня красавицей, я не строила иллюзий относительно своей внешности. У меня были худые лицо и тело, большие любопытные глаза под густыми дугами бровей. Мои волосы были волнистыми и непослушными, из них невозможно было соорудить нечто изысканное и утонченное, одну из причесок, какие я видела у других женщин. Я упрямо отказывалась коротко подстричь их по последней моде.
Мне было тридцать лет, а это уже далеко не юность. А в некоторых человеческих сообществах меня сочли бы старой. По всей видимости, те, кто знал меня в Олбани, уже записали меня в старые девы.
Я оставила свои рисунки, зашла в ванную и стала изучать себя в запачканном зеркале над раковиной. Кожа моего лица, обычно темного цвета, имела пепельный отлив, а губы были странного розовато-лилового цвета, что лишь подчеркивало темные круги под глазами. На висках волосы стали тусклыми. Не так драматично, как седина, но казалось, что обычно богатый черный блеск моих волос начал увядать. Неужели это произошло давно? А может, я просто не обращала на это внимания? А что я видела в своих глазах? Ничего! Их цвет потускнел, и в них не было ничего необычного. Загадочные — так когда-то сказал о них Этьен. «Твои глаза загадочные, Сидония, — сказал он. — Загадочные, словно ты ускользаешь, как легкая дымка».
Неужели я придумала, что он когда-то говорил мне это?
— И что теперь? — вслух произнесла я, и у меня за спиной послышался осторожный шорох.
Я обернулась: Синнабар пришла вслед за мной и стояла на пороге. Она смотрела на меня, как бы спрашивая: «Ты еще не успокоилась? Ты не можешь посидеть на одном месте, чтобы я могла отдохнуть?»
Я подошла к окну в гостиной. За оконным стеклом были только темнота и тихое настойчивое постукивание липовой ветки. Этой ночью постукивание было совсем не похоже на танцевальный ритм, как мне когда-то казалось; этой ночью это был отсчет времени костлявым пальцем по плечу. Я устала от своей собственной предсказуемости и ограниченности.
Снова я увидела свое отражение, на этот раз в оконном стекле, мрачное и неотчетливое, будто я была призраком самой себя.
Я подняла с дивана, куда бросила вчера, свою сумочку и отнесла в кухню. Там я вытряхнула все, что принесла домой из квартиры Этьена: его очки, пузырек с таблетками и письмо. Разложила это все на столе перед собой и, сев, уставилась на эти предметы. Я прочла письмо уже три раза, не было надобности читать его снова, потому что к тому времени я знала все слова наизусть.
Я посмотрела на пузырек с таблетками, потом поднялась и, подойдя к книжному шкафу в гостиной, вытащила оттуда толстый медицинский справочник и атлас. Я принесла их в кухню и открыла справочник на алфавитном указателе. Вот он, этот оксазолидинедион.
Это было лекарство от неврологической патологии, и назначалось оно, чтобы предотвратить приступы эпилепсии и спазмы при параличе.
Но, конечно же, Этьен не был эпилептиком. У него никогда не было припадков в то время, когда я была с ним. И у него не было признаков паралича. Иногда он был немного неловким, задевал мебель или спотыкался о край ковра. Я вспомнила, как наблюдала за ним, когда он разрезал курицу, приготовленную мной на обед, и как вдруг нож в его руке как бы вывернулся набок. Этьен выронил его и уставился, как на незнакомый предмет, затем отвернулся от меня, подошел к мойке и долго мыл руки. Тогда я не задумывалась ни о чем таком, но сейчас вспомнила, как эти, казалось бы, незначительные промахи огорчали его и как он из-за них раздражался, что было для него нехарактерно, бормотал себе что-то под нос и отмахивался от моих вопросов.

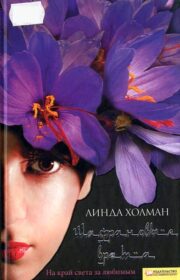
"Шафрановые врата" отзывы
Отзывы читателей о книге "Шафрановые врата". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Шафрановые врата" друзьям в соцсетях.