Он замолчал. Это был самый длинный монолог, произнесенный Ажулаем. Я осознала, что пристально смотрю на него, вернее, на его губы. «У него чувственный рот», — внезапно подумала я. В его отличный французский язык арабский привнес какой-то внутренний ритм, так что его речь звучала почти как мелодия.
Он знал, о чем говорил.
— Жена часто что-то подозревает. Но если бы мадам Дювергер знала о Рашиде, она бы не позволила ей остаться служанкой в своем доме. Она была добра к Рашиде и даже к Манон.
— Она знала Манон?
— Пока Манон была маленькой, ее растила бабушка, но когда она повзрослела, мать нередко забирала ее в большой дом, в дом Дювергеров, чтобы та помогала ей в работе. И Манон говорила мне, что мадам Дювергер делала ей маленькие подарки и отдавала кое-какую одежду, которая ей больше не была нужна. Манон знала, кто ее отец. Здесь, в медине, все семьи знают, кто отец ребенка. Это не является тайной. Во французском квартале — да, но не в медине. Когда Манон не помогала матери, она иногда играла с Этьеном и Гийомом. Но она знала, что не может раскрыть секрет, не может рассказать, что отец Этьена и Гийома также и ее отец, потому что тогда ее мать потеряла бы работу и лишилась некоторых привилегий, которые мсье Дювергер ей предоставлял.
— Значит, Этьен… Он тогда не знал?
Выражение лица Ажулая снова изменилось.
— Он не знал этого долгие годы. Манон была для него просто дочерью служанки. Но Манон обладает большой внутренней силой и решимостью. Она занималась самообразованием. Она научилась говорить на французском как на родном языке. Она была очень красивой, — и есть, как вы заметили. Очень… — Он сокрушенно покачал головой и сказал какое-то арабское слово. — Я не могу подобрать точное французское слово. Но она всегда могла заставить мужчин приходить к ней и желать ее. С пятнадцати лет у Манон всегда были мужчины, которые обеспечивали ее.
Я знала слово, которое он подыскивал. Сексуальная. Желанная. Я вспомнила, как кокетливо она вела себя с Ажулаем. А еще мне было ясно, что она прекрасно осознает, какой властью над мужчинами обладает. Значит, Ажулай знал ее давно? С пятнадцати лет? Он любил ее все эти годы?
— Манон никогда бы не стала угодливой марокканской женой, вся жизнь которой ограничена домом и двором, — продолжал Ажулай. — Она хотела мужа-француза, мужчину, который обращался бы с ней, как обращаются с французскими женщинами. И у нее были мужчины-французы, много. — И снова я вспомнила Оливера, выходящего из ее спальни. — Но никто бы на ней не женился, они понимали, что она собой представляет. — Ажулай помолчал пару секунд. — Манон и не арабка, и не европейка. И она не одна такая, в Марокко много женщин, подобных Манон. Но они, тем не менее, живут достойно. Несчастье Манон в том, что она позволила себе однажды слишком много вольностей. Она бы не стала марокканской женой, но она также и не стала бы шикхой — содержанкой. Здесь это легальная профессия.
Так много вопросов, на которые трудно найти ответы! Казалось, что я запуталась в паутине: Манон, Ажулай, Оливер, Этьен.
— Вместо этого, — сказал Ажулай, — Манон искала любви. Она попыталась ухватить ее кончиками пальцев, и тем не менее, как это ни грустно, была не в состоянии понять, почему то, что она считала любовью, всегда от нее ускользало.
Я наблюдала за его лицом. Предлагал ли он когда-нибудь Манон выйти за него замуж? Отказала ли она ему, потому что он туарег, но он продолжает ее любить?
— Но… когда Этьен узнал, что Манон его сестра? — спросила я.
Ажулай вышел из тени и посмотрел на солнце.
— Я должен идти, — сказал он.
Я осталась на месте, не желая, чтобы он уходил. Его рассказ и его голос буквально загипнотизировали меня.
Он оглянулся на меня.
— Я передам Этьену то, что вы просили, мадемуазель О'Шиа, — пообещал он.
— Меня зовут Сидония, — сказала я, не понимая зачем.
Он кивнул. Я хотела, чтобы он назвал меня по имени. Мне хотелось услышать, как он произнесет мое имя. Но он повернулся и зашагал прочь.
Пока я жила в отеле «Норд-Африкан», несколько раз, увидев издали мужчину в одном из придорожных кафе во французском квартале, я думала, что это Этьен. Иной раз, когда я ловила на себе взгляд высокого туарега в синем, царственно вышагивающего по улице, я думала, что это может быть Ажулай.
Иногда мне снился Этьен: беспокойные, тревожные сны, в которых терялись либо он, либо я. Сны, в которых я находила его, но он меня не узнавал. Сны, в которых я видела его издали, но, когда подходила ближе, он становился меньше и совсем исчезал.
Сны, где я смотрела в зеркало и не узнавала себя, мои черты постоянно менялись.
Просыпаясь после таких кошмаров, я пыталась успокоиться, вспоминая время, когда мы с Этьеном любили друг друга в Олбани. Но становилось все труднее и труднее вспоминать моменты нежности, выражение его лица, когда он смотрел, как я иду к нему.
Однажды утром, лежа в постели и слушая призыв к утренней молитве, я потянулась к тумбочке и взяла плитку Синего Человека с писты. Я провела рукой по выпуклому сине-зеленому узору; плитка была гладкой и холодной под моими пальцами. Как мастер добился такой глубины цвета?
Я вспомнила дикие картины маслом Манон, а потом сравнила их со своими изящными изображениями, к которым всегда относилась болезненно, с моими тщательно выполненными, идеальными цветками в нежных тонах. Осторожными мазками я выписывала птичий хохолок или крыло бабочки. Да, это были чудесные цветы, замечательные птицы и бабочки, нарисованные с натуры, но какие ощущения они вызывали? Какую часть себя я вложила в те работы?
И снова я увидела себя с кисточкой в своей комнате в Олбани, пытающуюся передать что-то малозначительное. Но я знала, что те картины уже не были частью моего мира — этого мира, нового мира.
Я снова вспомнила поездку с Мустафой и Азизом, яркие лодочные причалы вдоль побережья Атлантики, желтое небо в конце дня, кружение чаек. Я вспомнила деревенских бдительных, вечно голодных собак под столами торговцев мясом, ожидающих ежедневной подачки — внутренностей козы, овцы или ягненка, которые мужчины бросали им.
Я вспоминала ровные ряды пальм на главной улице Ла Виль Нувель и разнообразие цветов в многочисленных садах. Я закрыла глаза и представила переливы марокканских красок повсюду: в тканях, одежде, на кафеле, стенах, ставнях, дверях и воротах. От этих ярких цветов у меня уже рябило в глазах, но были здесь и такие мягкие, такие нежные и неземные цвета, что хотелось протянуть руку и зажать их в кулаке, как некоторые хотят поймать облако.
Я села.
Неожиданно мне захотелось нарисовать все это: лодки, небо и птиц — и парящих в небе, и заточенных в клетки на рынке. Мне захотелось нарисовать костлявых котов Марракеша, или даже отвратительные отрубленные головы коз, или одинокие могилы на мусульманском кладбище. Я хотела передать суету лабиринтов базаров с их тяжелыми корзинами с шерстью, с впечатляющими узорами на коврах, с переливающимися камнями в украшениях, со сверкающими серебряными чайниками и с радужными бабучами. Я хотела запечатлеть неправдоподобно белоснежные — благодаря извести — беленые стены; я хотела воссоздать невообразимые действа Джемаа-эль-Фна; я хотела скопировать знаменитую синеву Мажореля.
Я понятия не имела, смогу ли воспроизвести хоть какой-нибудь из этих образов, пусть даже приблизительно. Но я должна была попробовать.
Я пошла в художественный магазин, мимо которого часто проходила, и купила акварельные краски, бумагу, мольберт, кисточки разных размеров. На все это ушла большая часть моих сбережений, но я ощутила такую сильную потребность рисовать, что не могла этого не сделать.
Я вернулась в отель, поставила мольберт у окна и провела остаток дня, экспериментируя с красками. Кисточки слушались моей руки. Мои мазки были уверенными и сильными.
Когда я заметила, что начинает темнеть, а моя шея и плечи затекли, я оторвалась от мольберта, изучая свою работу.
Я вспомнила картины в вестибюле гранд-отеля «Ла Пальмере» и сравнила их с моими.
Меня вдохновила одна мысль. Может быть, абсурдная.
Глава 27
Через несколько дней, когда я пыталась запечатлеть на бумаге взгляд марокканской женщины, я остановилась и подошла к зеркалу. Затем повязала голову белым льняным платком. С накинутым поверх платка хиком, так что были видны только мои темные глаза и брови, я ничем не отличалась от других местных женщин.
Хотя Джемаа-эль-Фна и некоторые другие рынки я уже немного знала, мне все же было неприятно заходить в медину. То и дело я раздражалась, когда меня пристально разглядывали, окружали небольшие группы попрошайничающих детей, окликали все без исключения продавцы, предлагая купить у них товары, когда ко мне тайком прикасались.
Я вышла в город, чтобы посмотреть на дорогие шелковые кафтаны в витринах французского квартала, а затем пошла в медину и нашла базар, где такие же продавали в разы дешевле. Я пощупала самый простой из кафтанов и наконец, после долгого торга, купила один. Он был сшит из хлопка, с маленькими красными цветочками на желтом фоне. Я купила длинный и широкий кусок плотной белой материи — хик — и покрывало. Я принесла все это в свой номер в отеле и надела.
Я долго рассматривала себя в зеркале, затем все сняла и быстро закончила свою картину. На следующий день, одевшись как марокканская женщина, я вышла из отеля и направилась в Джемаа-эль-Фна. Через площадь я шла медленно и то и дело оглядывалась. Я всегда ходила быстро, чтобы не встречаться глазами с людьми и не привлекать к себе внимания. На это раз все было по-другому. Я стала невидимой. А вместе с невидимостью пришла свобода.
Никто на меня не смотрел — ни французские мужчины и женщины, ни марокканцы и марроканки. Я могла идти куда хотела. Я могла наблюдать и слушать. Стало намного легче все узнавать, я поняла, что больше не нужно следить за своей речью и поведением.
Я увидела Мохаммеда с маленькой обезьянкой, припавшей к его плечу, — он даже не взглянул на меня. Я остановилась понаблюдать за заклинателями змей и заметила, что, когда солнце было очень ярким, змеи становились энергичнее.
Я увидела детей, толпившихся вокруг пары европейцев, которые пытались сбежать, как когда-то я. Один из маленьких мальчиков напомнил мне Баду, и мне так захотелось увидеть его снова! Я надеялась, что, когда вернется Этьен, у меня еще появится такая возможность; когда Манон увидит, что Этьен ко мне хорошо относится, у нее не будет другого выхода, кроме как принять меня. Может быть, ей это не понравится, но ей придется с этим смириться.
В конце первой недели, проведенной мной в маленьком отеле, я взяла две свои акварели и, набросив зеленую накидку, пошла в отель «Ла Пальмере». Увидев, что я подхожу к столу, мсье Генри напрягся.
— Bonjour, мсье, — сказала я. — Как дела?
— Замечательно. Замечательно, мадемуазель. Чем могу помочь? — Он посмотрел, нет ли при мне чемоданов.
— Мне хотелось бы обсудить кое-что.
— Вы хотите остановиться у нас?
— Нет, — улыбнувшись, сказала я, стараясь не показать, что волнуюсь. Это было так важно для меня! — Нет, я не буду останавливаться у вас снова. — Я развернула картины. — Вот, я нарисовала это недавно и хотела бы узнать, не разместите ли вы их здесь вместе с другими работами для продажи за комиссионное вознаграждение.
Он долго изучал их, затем поднял на меня глаза.
— Вы хотите сказать, что это вы написали, мадемуазель?
Я кивнула.
— Согласитесь, они будут гармонировать с теми, что уже размещены у вас, — произнесла я с натянутой улыбкой, желая выглядеть деловитой и не показывать, насколько я в этом заинтересована. Не дать ему увидеть мое отчаяние.
Если мне придется в Марракеше ожидать возвращения Этьена, мне нужны будут деньги. Для меня это была единственная возможность решить свои финансовые проблемы.
Он не сказал «нет», но наклонил голову набок.
— Конечно, не мне решать. У нас есть специальный человек, занимающийся продажей произведений искусства и ювелирных изделий в отеле.
— Я уверена, вы могли бы как-то повлиять на него, — сказала я. — Ведь вы человек с хорошим вкусом.
Я нервно сглотнула.
Ему понравился комплимент, его лицо расплылось в улыбке.
— Попробую что-нибудь сделать для вас, — сказал он. — Мы продали несколько картин недавно, и, возможно, новый художник был бы интересен.
Я испытала такое облегчение, что мне понадобилось какое-то время, прежде чем я смогла говорить спокойно. Ничего определенного, но, по крайней мере, он не забраковал их.
— Отлично, — сказала я. — Да, отлично. Я оставлю их у вас и приду через несколько дней узнать, хочет ли отель их взять. У меня есть еще, — добавила я. — Я закончила еще две, а очередную начала сегодня утром.

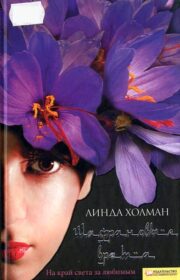
"Шафрановые врата" отзывы
Отзывы читателей о книге "Шафрановые врата". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Шафрановые врата" друзьям в соцсетях.