Юные девушки из «благородных» семей обычно очень боятся тяжелых родов и болезненных месячных, не говоря уж о такой «страшной» вещи, как потеря девственности. Не сказав прямо и честно ни одного слова обо всех этих вещах, моя мать постаралась внушить мне, что основная обязанность жены – это зачать, выносить и родить наследника, но при этом весьма прозрачно намекнула, что этому предшествует нечто весьма неприятное. Возможно, с ее точки зрения, именно так и было. Возможно, первая брачная ночь – в огромной фамильной кровати с мужчиной, выбранным или даже навязанным тебе родителями, которые сразу четко определили поставленную перед тобой задачу, – это действительно весьма болезненное оскорбление и твоему телу, и тем более твоей душе. Но вот что я знаю наверняка: когда впервые ложишься с парнем, которого выбрала сама, и делаешь это по собственной воле, чувствуя себя совершенно свободной, а над тобой в это время шумят деревья Широкого Дола и высится небо Широкого Дола, тебя охватывает такое чувство, словно ты – часть древней магии этой земли, и в твоих ушах эхом отдается биение ее огромного сердца.
Мы катались по земле, сплетясь юными телами, точно детеныши выдры, столь же неопытные и столь же грациозные, охваченные некими новыми, невыразимыми, неожиданными ощущениями, которые все усиливались, пока я, достигнув наивысшей точки наслаждения, не уткнулась Ральфу в плечо, задыхаясь и плача, а он не воскликнул изумленно и восхищенно: «О господи!»
А потом мы лежали молча, и тела наши были по-прежнему крепко переплетены, точно руки в рукопожатии. Так, прижавшись друг к другу, мы и уснули, как дети – да мы, собственно, и были еще детьми.
Проснулись мы замерзшими, всклокоченными и сразу почувствовали себя крайне неловко. У меня вся спина была в красных отметинах от травы, мелких веточек и листьев, а Ральф до крови ободрал себе лоб, несколько раз боднув грубую кору упавшего дерева. Мы поспешно натянули на себя одежду и снова обнялись, чтобы хоть немного согреться; вокруг уже сгущались легкие весенние сумерки, делая длиннее и темнее тени от кустов и деревьев. Затем Ральф, подставив сложенные «лодочкой» руки, подсадил меня в седло, мы обменялись еще одним безмолвным теплым взглядом, и я, развернув лошадь, рысцой поехала к дому, мечтая о горячей ванне и сытном обеде. Я чувствовала себя богиней.
Эти первые безмолвные свидания проложили тропу для тех любовных игр, которые приносили нам все больше наслаждения, а потому и встречи наши стали более частыми, особенно когда стало совсем тепло и в темных полях зазеленели всходы. Нужно было присматривать за новорожденными ягнятами и телятами, а также за работой в полях – все это позволяло мне практически не общаться с мамой и почти целыми днями отсутствовать дома. Но после того, как я заканчивала осмотр молодых животных или перевод овец на более высокие пастбища, где трава была более сочной и нежной, я могла заниматься чем угодно. Ральф знал несколько укромных местечек в лесу, за дальними полями, гораздо дальше, чем мы когда-то, шестилетними, вместе играли, а если шел дождь – к счастью, дождливых дней было немного, – мы встречались на старой мельнице, и над нашими распростертыми на старой соломе телами метались ласточки, уже кормившие птенцов. По голодному писку малышей я легко могла определить, сколько недель прошло с тех пор, как мы с Ральфом стали любовниками, ведь когда мы с ним встретились на мельнице в первый раз, ласточки еще только строили гнезда. Постепенно писк птенцов становился все громче, а однажды они, совсем окрепнув, вылетели из гнезда. Только тогда я заметила, что уже середина лета.
На самом деле мы с Ральфом совершенно не замечали бега времени, да и лето в этом году, казалось, будет длиться вечно, давая нам возможность проводить вместе жаркие полуденные часы. Похоже, сама земля вступила с нами в сговор, скрывая нас то в высоченных зарослях папоротника в общинном лесу, то среди густого подлеска в глубинах нашего парка. Природа словно улыбалась нам ласково и беспечно, и даже мой отец признался, что никогда еще на его памяти не было такого чудесного лета. Не иначе как древние боги нам помогают, сказал он, потому что сенокос можно начинать необычайно рано.
Конечно, то была магия древних языческих богов. И все мои теплые солнечные дни, все мои сны были полны Ральфом; он шел, горделиво ступая, точно некий темноволосый бог земли, и весь Широкий Дол вокруг него зеленел и расцветал. И я знала: это наша страстная любовь делает дни такими солнечными и длинными, а ночные небеса наполняет россыпью чистейших звезд.
В любовных играх мы становились все более умелыми и стремились доставить друг другу как можно больше наслаждения, но каждый раз, сливаясь в объятиях, по-прежнему испытывали некий благоговейный трепет. Мне казалось каким-то непрекращающимся чудом уже одно то, что я лежу рядом с Ральфом под этими раскачивающимися высокими деревьями или мы, свернувшись клубком, скрываемся в зарослях папоротника. Мы старались воплотить в жизнь все, на что было способно наше воображение; каждое свое желание мы связывали с тем, чтобы доставить удовольствие друг другу, и делали это с нежностью, со смехом, с прерывистым возбужденным дыханием и с каждым днем все более совершенствовались в искусстве любви. Мы могли часами лежать обнаженными, лаская друг друга так, как больше всего хотелось партнеру, и сменяя друг друга в этих ласках.
– Тебе приятно, когда я трогаю тебя здесь? А здесь? – спрашивала я, исследуя распростертое передо мной тело Ральфа пальцами, губами, языком.
– О, да, да!
Нас также приятно возбуждала опасная возможность того, что кто-нибудь случайно нас обнаружит. А однажды у нас и вовсе вышло незапланированное свидание. Ральф принес в усадьбу зайца, а я в этот момент по поручению мамы срезала в саду розы. Он вошел в сад со стороны кухни, находившейся на задах дома, и я, услышав, как лязгнул засов калитки, обернулась и от удивления выронила корзину, полную срезанных роз. Впрочем, о корзине я тут же забыла. С беспечной отвагой, не обращая внимания на то, что в окна гостиной весь сад виден как на ладони, Ральф подошел ко мне, взял за руку и потащил в беседку, где мы немедленно занялись любовью, на этот раз стоя. Задранный подол моего шелкового платья был весь измят и очень мешал нам; лбом Ральф больно упирался мне в грудь, пытаясь ее поцеловать. Мы оба задыхались, торопились и в итоге испытали прямо-таки невероятное наслаждение. Наконец Ральф снова поставил меня на ноги, мы дружно расхохотались и никак не могли остановиться, настолько вся эта ситуация выглядела комически-наглой – еще бы, заниматься любовью в саду среди бела дня прямо перед окнами маминой гостиной!
А как-то еще в мае – это был день моего рождения – я проснулась рано утром и стала с волнением слушать, как безумолчно поют птицы, встречая розовую зарю, но думала я не о том, каких дорогих подарков могу ожидать от своих родителей, а о том, что, возможно, подарит мне Ральф.
Мне не пришлось долго теряться в догадках. Умываясь и плеща водой в лицо, я услышала под окном негромкий протяжный свист и прямо так, в одной ночной сорочке, распахнула створки окна и высунулась наружу. Ральф, увидев меня, радостно улыбнулся и хриплым шепотом сказал:
– С днем рождения! А я тебе подарочек принес.
Я спрыгнула с подоконника, кинулась к туалетному столику, отыскала в ящике клубок шерсти и, точно принцесса из волшебной сказки, сбросила клубок Ральфу. Он крепко привязал к нему маленькую корзиночку из ивовых прутьев, со всех сторон обмотав ее нитками, и я осторожно втащила ее наверх, точно попавшегося на крючок лосося. Поставив корзиночку рядом с собой на подоконник, я услышала внутри, за переплетением прутьев, какое-то шуршание и с удивлением спросила:
– Там что-то живое?
– Живое и больно царапается, – сказал Ральф и показал мне длинную красную царапину, украшавшую тыльную сторону его ладони.
– Котенок? – предположила я.
– Ну, разве котенок – это подарок для тебя? – пренебрежительно отверг Ральф мою догадку. – Нет, там нечто более удивительное.
– Значит, львенок, – тут же заявила я и улыбнулась, услышав, как Ральф негромко, по-деревенски, засмеялся.
– А ты открой и посмотри, – посоветовал он. – Только открывай осторожно.
Я отстегнула маленькую застежку на крышке корзинки и заглянула внутрь. На меня глянули темно-синие глаза, мелькнули взъерошенные, сердито растопыренные перья – в корзинке оказался совенок, совсем еще маленький. Он перевернулся на спину, выставив вперед лапки с острыми когтями, и явно намерен был защищаться до последнего и дорого продать свою жизнь; из его открытого клюва с красным язычком доносилось хриплое сердитое кваканье.
– Ой, Ральф! – воскликнула я в полном восхищении и глянула вниз: лицо Ральфа светилось любовью и торжеством.
– Пришлось на самую верхушку сосны взобраться, чтобы его достать, – с гордостью сообщил он. – Мне хотелось подарить тебе что-то такое, чего никто другой тебе подарить бы не смог. И чтобы это непременно было из Широкого Дола.
– Я назову его Канни[7], – сказала я. – Ведь совы – очень мудрые птицы.
– Не такие уж они мудрые, – сказал насмешливо Ральф. – Мы с этим птенцом чуть с дерева не свалились, когда он меня оцарапал.
– И я всегда буду любить его, потому что это ты мне его подарил! – сказала я, глядя в безумные темно-синие глазищи птенчика.
– Значит, и мудрость, и любовь достаются какой-то одной маленькой сове, – вздохнул Ральф.
– Спасибо тебе! – В эти два слова я, казалось, вложила всю душу.
– Ты выйдешь потом? – спросил он как бы невзначай.
– Возможно, – сказала я и лучезарно ему улыбнулась. – Я постараюсь прийти на мельницу сразу после завтрака. – Услышав шум на кухне – прислуга уже растапливала плиту, – я обернулась, потом быстро сказала Ральфу: – А сейчас я должна идти. Увидимся на мельнице. Еще раз спасибо тебе за чудесный подарок.
Среди наших разнообразных хозяйственных построек была одна маленькая кладовая, которой почти никогда не пользовались; там-то мы и решили держать Канни. Ральф рассказал мне, что птенца нужно кормить кусочками сырого мяса, обваляв их в шерсти или в перьях. Он также посоветовал мне нежно поглаживать ему перья на груди, если я хочу, чтобы он закрыл свои синие глазищи и задремал.
В то лето Ральф был готов ради меня залезть на любое дерево, пойти на любой риск. Да и я ради него была готова на все. Или почти на все. Единственное, чего я никогда бы не сделала – и если бы он был мудрее или не был настолько в меня влюблен, то должен был бы воспринять это как предупреждение, – я никогда не легла бы с ним в постель сквайра Широкого Дола, моего отца. А Ральф страстно мечтал об этом. Больше всего на свете ему хотелось лежать со мной в постели хозяина поместья под темным резным балдахином, который поддерживали четыре столба толщиной с сосновый ствол. Но я бы на это никогда не пошла. Как бы сильно я ни любила Ральфа, он, помощник егеря, никогда бы не лег со мной в постель сквайра! Я очень старалась избегать этой темы в разговорах с ним, но однажды, когда мои родители уехали в Чичестер, а слуг с половины дня отпустили, Ральф прямо попросил меня лечь с ним на отцовское ложе и столкнулся с моим прямым и резким отказом. От гнева его глаза стали совершенно черными, и он, не говоря более ни слова, тут же ушел – отправился ставить в лесу силки. А вскоре он и вовсе позабыл об этом, единственном, хотя и довольно резком, моем отказе. Будь он мудрее, он бы этот случай запомнил и не забывал о нем даже в те летние дни, полные золотого безвременья.
А для моей матери то лето как раз тянулось слишком медленно, потому что она буквально считала дни до возвращения из школы ее «золотого мальчика». Она даже сделала себе маленький календарик, повесила его на стену в гостиной и отмечала в нем дни, оставшиеся до конца учебного года. Я каждый вечер равнодушно замечала: вот и еще один день вычеркнут. Проявляя крайне мало охоты и еще меньше умения, я подшивала шторы и помогала стегать новое одеяло с вышитым драконом для оформленной в «китайском стиле» комнаты Гарри. И, несмотря на мои неуклюжие усилия и ненависть к извивающемуся хвосту этого дурацкого дракона, одеяло было доделано и расстелено на кровати Гарри, ожидая прибытия самого «императора».
Первого июля день был совершенно чудесный, и ужасно жаль было тратить его на то, чтобы торчать у окна в гостиной и прислушиваться, не едет ли Гарри. Едва услышав топот копыт на подъездной аллее, я тут же послушно позвала маму, а она вызвала из оружейной комнаты отца, и мы все трое выстроились на крыльце, когда карета вылетела из-за поворота и устремилась к дому. Папа приветливо махнул Гарри рукой, и тот, как мальчишка, выпрыгнул из кареты, не дожидаясь, когда спустят ступеньки. Мама тут же ринулась к нему. Я держалась позади и не особенно спешила; в сердце у меня теснились самые разнообразные чувства – возмущение, ревность и даже некий страх.

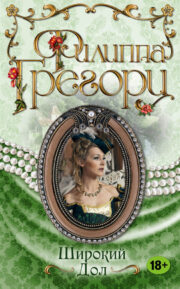
"Широкий Дол" отзывы
Отзывы читателей о книге "Широкий Дол". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Широкий Дол" друзьям в соцсетях.