И дедушку Тайэка повесили.
Бедного, храброго, глупого старика.
Те двое парней, правда, пытались протестовать и уверяли судей, что он ни в чем не виноват, но судьи к ним не прислушались; их вполне устраивало, что преступник пойман и сам признался в уничтожении изгородей, в нарушении границ частной собственности и в том, что готов был сжечь даже весь лес. Вот они и повесили виновного во всех этих преступлениях. На эшафот дедушка Тайэк взошел ровным шагом, и старые его плечи были гордо расправлены.
А тех двоих, Хантера и Фростерли, приговорили к транспортации[28]. Нед Хантер, правда, еще в тюрьме заболел лихорадкой и умер, не дождавшись высылки, у Сэма на руках – с почерневшими, запекшимися от жара губами, мечтая хоть одним глазком увидеть родной дом, почувствовать ласку матери. Сэма Фростерли отправили уже на следующем корабле, и через некоторое время родные получили от него письмо, единственное. Он писал, что находится в Австралии и жизнь там очень тяжелая. Это и впрямь была горькая доля для человека, выросшего в самом сердце Сассекса. Как он, должно быть, страдал от тоски по зеленым холмам своей родины! Говорят, именно тоска по дому его и убила, а вовсе не страшная жара, не ядовитые мухи и не чудовищные, кровавые уличные драки. Он умер примерно через год после высылки. Если ты родился и вырос в Широком Доле, то больше нигде счастливым быть не можешь.
Я выслушала известия об этих смертях – дедушки Тайэка на виселице и Хантера в ожидании посадки на корабль с преступниками – сжав губы, с белым лицом и сухими глазами. После смерти Хантера Джон Тайэк, молодой и красивый внук дедушки Тайэка, любимец всей деревни, куда-то исчез. Некоторые считали, что он убежал за море, другие – что он повесился в лесу и его найдут, когда осенние ветра сметут с ветвей густую листву. Однако в лесу его не оказалось. Он просто исчез. И мне было ясно одно: никогда больше эта развеселая троица не пройдет, красуясь, по деревенской улице. Никогда больше на празднике урожая Джон Тайэк не будет кружиться со мной в зажигательной джиге, пока остальные, теребя в руках шапки, хихикают и подталкивают друг друга локтями. Эти трое парней исчезли из нашей деревни навсегда.
Глава семнадцатая
И из моей души тоже что-то навсегда исчезло.
Я больше не слышала, как бьется сердце Широкого Дола. Я не слышала пения его птиц. Даже когда стало пригревать весеннее солнышко – а весна в этом году была холодная, затяжная, словно само сердце Англии превратилось в ледяной комок, – я так и не отогрелась. В лесу уже куковали кукушки; жаворонки начали свои пробные полеты и уже завели свои любовные песни, а мне по-прежнему было холодно. И сердце мое не пело вместе с расцветающей природой. В Широкий Дол снова пришла весна с россыпью нежных, качающих головками нарциссов, с коврами полевых цветов, с ароматом свежей листвы, с шумом бурной Фенни, но я так и не оттаяла, словно навечно заледенев зимой.
Я и сама толком не понимала, что со мной происходит. Мне ничего не хотелось ни слышать, ни видеть. Ничто в жизни я больше не воспринимала как нечто реальное. Я смотрела на раскинувшуюся передо мною влажную и уже зеленеющую землю, словно сквозь стену прозрачного льда, и мне казалось, что эта стена отныне вечно будет отгораживать меня от той земли, которую я когда-то любила, и от тех людей, которых я когда-то так хорошо знала.
Я много времени проводила у окна. Просто стояла и смотрела, не веря собственным глазам, сквозь стеклянные створки на зеленеющий лес, который был столь же ярок и так же приветственно махал мне ветвями, как прежде. И мне начинало казаться, что сердце мое опять стучит в такт с ровно бьющимся сердцем моей земли. Но выйти из дома я не осмеливалась. Мне надоело разъезжать на двуколке, а верхом я ездить не могла – все еще была в трауре. Но мне, собственно, и не хотелось ездить верхом, как не хотелось и просто гулять по полям. Мне казалось, что теплая влажная земля, липнувшая к моим башмакам, затягивает меня в какую-то мерзкую глинистую трясину, совсем не похожую на мягкую плодородную почву Широкого Дола. А когда я ездила на двуколке, мне вдруг становилось трудно даже просто заставить лошадь повернуть или, щелкнув языком, пустить ее рысью либо ровным шагом.
Да и сам весенний сельский пейзаж уже не казался мне столь очаровательным; он был слишком ярок; зеленые тона этой весной отчего-то резали мне глаз. Я щурилась и морщилась, стараясь смотреть не по сторонам, а вперед, на далекие холмы, и солнце проложило отчетливые линии вокруг моих губ и на лбу.
Той весной я не испытывала ни малейшего удовольствия, разъезжая по поместью, но вряд ли смогла бы сказать, почему это происходит. И, разумеется, никакого удовольствия я не испытывала от посещений деревни. Как я и обещала, деревенские пока не почувствовали никакой нехватки топлива. Я вполне сознательно, как и обещала, отложила огораживание некоторых участков общинных земель. Им не за что было меня упрекать. Благодаря мне никто в деревне, по крайней мере, не мерз. Так что далеко не все, что я делала, было так уж плохо.
Но крестьяне мне больше не верили. Если в тот год, когда расцвела наша с Ральфом любовь, все успехи – и щедрые зеленые всходы, и благодатное тепло, и хороший урожай – люди связывали с моей природной магией, с моей любовью к этой земле, то теперь, когда все пошло так плохо, всех собак тоже вешали на мои ворота. У Сауеров умерла корова, и в этом, конечно же, обвинили меня, потому что корова не могла пастись на бывшем общинном лугу, покрытом сочной молодой травой. В семье Хилл заболел ребенок, и в этом тоже была виновата я, потому что мой муж, врач, был где-то далеко, а пригласить другого доктора им было не по карману. Миссис Хантер, лишившись сына, сидела у почерневшей каминной решетки и все время плакала из-за постигшего их семью позора. Она знала, что ее сын умер в тюрьме, что перед смертью он звал ее, но она, разумеется, никак не могла до него добраться. И в этом тоже была моя вина. Во всяком случае, так говорили в деревне: все это ее вина, мисс Беатрис!
И я понимала, что они правы.
Когда мне приходилось ехать через деревню, я держала голову высоко поднятой и с презрением посматривала вокруг. Там по-прежнему не находилось ни одного, кто был бы способен выдержать мой взгляд; все с недовольным видом отводили глаза. Однако мое презрение испарялось, стоило мне увидеть миссис Хантер за окном ее домика, без движения сидящую у почерневшей каминной решетки, хотя над крышей у нее не было заметно ни малейшего дымка. Я не чувствовала себя готовой с полным бесстыдством не замечать бед, постигших мою землю. Мне было на этой земле страшно, неуютно и холодно. И как-то холодным промозглым днем я натянула поводья возле дома сапожника и крикнула: «Миссис Мерри!» Рядом стояли и судачили несколько женщин. Они разом обернулись на мой крик, и лица у них тут же стали замкнутыми и недовольными, и я невольно припомнила те времена, когда они кричали мне в ответ «Доброго вам дня, мисс Беатрис!», и улыбались, и собирались вокруг моей двуколки, чтобы поделиться со мной деревенскими сплетнями. Но теперь они кружком стояли поодаль, точно судьи в уголовном суде, и смотрели на меня холодными глазами. Они, правда, расступились, пропуская миссис Мерри к моей повозке, и меня поразило, как неохотно, еле волоча ноги, она шла ко мне. Она не улыбнулась мне; лицо ее так и осталось суровым.
– Что с миссис Хантер? Уж не больна ли она? – спросила я, беря вожжи в одну руку и засовывая кнут в гнездо.
– Никакая это не болезнь! – с вызовом заявила миссис Мерри, глядя на меня в упор.
– Тогда что же с ней такое? – нетерпеливо продолжала я. – У нее в очаге и огонь не горит. Я ездила мимо ее дома три дня подряд и каждый раз видела, как она сидит у пустого холодного очага. Что ее мучает? Почему друзья ее не навестят, не растопят у нее в доме камин?
– Она не хочет, чтобы очаг растапливали, – сказала миссис Мерри. – И еды она никакой не хочет. И не хочет ни с кем из друзей разговаривать. Она сидит так с тех пор, как ей принесли письмо от Сэма Фростерли, который сообщил, что ее сын Нед умер. Я сама ей это письмо читала – она ведь читать не умеет, – а она выслушала меня, взяла ведро с водой, залила огонь в очаге да и уселась возле мокрых головней. Так и сидела, пока я не ушла. И утром, когда я снова к ней зашла, она все так же сидела.
Лицо мое словно окаменело, но в глазах плескалось отчаяние.
– Она поправится, – сказала я. – Ее просто смерть сына так потрясла. Она ведь вдова, а Нед был ее единственным ребенком.
– О да, – печально подтвердила миссис Мерри.
И больше она ничего не прибавила, ни словечка. А ведь эта женщина приняла мое дитя, эта женщина не отходила от меня во время болезненных схваток, эта женщина дала мне слово, что не станет сплетничать насчет того, что ребенок родился слишком крупным для недоношенного, и свое слово сдержала. Эта женщина когда-то уверяла меня, что я забочусь о жителях Широкого Дола, в точности как мой отец.
– Это не моя вина, миссис Мерри! – с неожиданной страстью воскликнула я. – Я не хотела, чтобы так получилось, я ничего такого не планировала. Мне просто необходимо было увеличить количество полей под пшеницу. Откуда я могла знать, что эти парни надумают изгороди рушить? Я хотела, чтобы солдаты их просто припугнули; хотела, чтобы они перестали меня дразнить. Я же не думала, что их поймают и увезут в Чичестер. Я не думала, что дедушка Тайэк решит сам туда отправиться. И я никак не думала, что его повесят, а Нед умрет, и Сэма ушлют далеко в чужие края. Ничего этого я не хотела!
Но в глазах миссис Мерри не было жалости.
– Значит, вы и есть тот плуг, который не хотел рубить жаб на куски, – неприязненным тоном сказала она. – Та коса, которая совсем не хотела отрезать лапки зайчишке. Вы идете, куда вам нужно, направо и налево размахивая своим острием, но при этом вовсе не хотите калечить тех, кто попадается вам на пути. Так что вас вроде бы и винить-то не за что. Да и разве могут они винить вас, мисс Беатрис?
Я протянула знахарке руку – все-таки она была старой и мудрой женщиной – и снова сказала:
– Я действительно ничего этого не хотела, миссис Мерри, хотя теперь люди и обвиняют меня во всех смертных грехах. Ничего, мой сын еще все исправит. Скажите миссис Хантер, что я позабочусь о том, чтобы ее сына вернули домой и похоронили на церковном дворе, как полагается.
Миссис Мерри покачала головой.
– Нет, мисс Беатрис, – твердо заявила она, – никаких ваших слов я миссис Хантер передавать не буду. Для нее это было бы оскорбительно.
У меня даже дыхание перехватило. Я невольно схватилась за вожжи, и Соррел тут же пошел вперед, а я еще и слегка ударила его кнутом, чтобы пустить рысью. Когда я уже немного отъехала от этих женщин, в борт моей повозки что-то ударило.
Кто-то бросил в меня камень.
Кто-то бросил камень – в меня!
Так что той весной мне больше уже не хотелось ни ездить в лес, ни гулять по полям, ни спускаться вниз по дороге, ведущей в деревню. Гарри уезжал и приезжал, когда хотел. А Селия вообще постоянно посещала деревню. Именно Селия договорилась, чтобы тело Неда Хантера доставили домой. Именно Селия оплатила его похороны и установку небольшого креста на его могиле. Селию и Гарри в деревне по-прежнему встречали неизменными поклонами и неловкими книксенами. Но я в деревню больше не ездила. Лишь однажды воскресным утром – всего один раз за всю эту влажную весну – я проехала по деревенской улице, где двери всех домов были закрыты, но я знала, что их обитатели смотрят на меня из-за занавесок. Я проехала мимо маленького домика миссис Хантер, лишенного привычной струйки дыма над крышей, мимо свежих могил дедушки Тайэка и Неда Хантера. А потом я вошла в церковь и медленно прошла по центральному нефу мимо рядов скамей, заполненных людьми, и взгляд каждого из них был жестким, как кремень.
В ту весну я работала в основном у себя в кабинете. Джону Брайену я поручала все связанное с поездками и раздачей указаний. Он ежедневно являлся ко мне, я давала ему очередное задание, и он отправлялся его выполнять, осуществляя надзор над выполнением той или иной работы. Так и получилось, что Широкий Дол, никогда не знавший управляющего и всегда чувствовавший поступь своего хозяина, теперь находился под присмотром человека, никакого отношения к семейству Лейси не имевшего; Брайен даже и фермером-то не был; он был всего лишь мелким чиновником, который родился и вырос в городе.
Вместе со своей командой Брайен расчистил и распахал общинные земли, а потом засеял эти поля пшеницей. От деревенских больше никаких неприятностей не было. Брайен также распахал полдюжины лугов, где раньше играли дети; его плуг прошелся даже по тем уцелевшим кусочкам земли, что принадлежала самой деревне. Мы теперь сеяли пшеницу везде, где мог пройти плуг. И все же денег мы по-прежнему зарабатывали недостаточно.

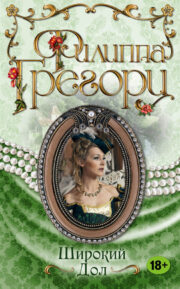
"Широкий Дол" отзывы
Отзывы читателей о книге "Широкий Дол". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Широкий Дол" друзьям в соцсетях.