Она немного выждала, надеясь, что я стану отвечать на это горестное обвинение, потом молча повернулась и вышла из комнаты. Я закусила губу; во рту был какой-то противный, кислый вкус. Посидев так минутку, я открыла переполненный счетами ящик стола, вытащила их все оттуда и снова принялась перебирать их.
Новость о проданной на корню пшенице быстро разнеслась по Широкому Долу, и визит ко мне Селии оказался просто первым из тех, которые мне пришлось вытерпеть. На ее вопросы было, пожалуй, ответить трудней всего, потому что теперь она меня совершенно не боялась, а ее честные карие глаза умели так смотреть на меня, словно она не может поверить тому, что видит.
Со вторым моим визитером справиться оказалось легче. Это был доктор Пиерс, деревенский викарий. Он вошел ко мне в кабинет с извинениями за то, что потревожил, и объяснил это тем, что чрезвычайно встревожен услышанной новостью.
Он, разумеется, прекрасно знал, кто платит церковную десятину, а потому очень старался не обидеть меня, но все же был буквально до безумия, почти как Селия, встревожен той нищетой, которую каждый день собственными глазами видел в деревне. Он не мог, как Гарри и я, попросту обходить деревню стороной. Он там жил, но даже его дом и обнесенный высоким забором сад не могли служить ему убежищем, когда он слышал, как дети на деревенской улице плачут от голода – ведь эта улица проходила как раз под окнами его дома.
– Я надеюсь, вы не сочтете, что я перехожу некие дозволенные границы, – нервно сказал он. – Я и сам весьма отрицательно воспринимаю всякого рода непредусмотрительность. Никто из тех, кто знает меня и моих друзей, ни на мгновение бы не усомнился в том, что я должным образом отношусь и к беднякам, и к необходимости повсеместно соблюдать дисциплину. Однако мне совершенно необходимо поговорить с вами, миссис МакЭндрю. Речь пойдет об этой проданной пшенице…
Я улыбнулась, сознавая свою власть над ним, и предложила:
– Ну, так говорите же. И я сделаю все, что смогу.
– В деревне говорят, что вся пшеница уже продана, – сказал он, глядя на меня и ожидая подтверждающего кивка. – Говорят, все зерно, все повозки до одной, будут отправлены в Лондон. – Я снова кивнула. – В деревне этим страшно обеспокоены; люди просто не знают, где им теперь купить зерно, чтобы смолоть муку и иметь возможность печь себе хлеб.
– На рынке в Мидхёрсте, я полагаю, – холодно ответила я.
– Миссис МакЭндрю, это приведет к мятежу! – воскликнул викарий. – Из трех основных поставщиков зерна два – ваше поместье и поместье Хейверингов – продают зерно на сторону, в Лондон. Одно лишь маленькое поместье Титеринг собирается продавать его на местном рынке в Мидхёрсте. А ведь зерно понадобится сотням семей, и того количества, которое производит Титеринг, людям попросту не хватит.
Я пожала плечами и поморщилась.
– Значит, им придется отправиться в Петуорт или в Чичестер.
– Неужели нельзя это остановить? – Голос доктора Пиерса дрогнул, его всегда вежливо улыбающееся лицо горожанина было искажено откровенным беспокойством, даже страхом. – Ведь деревня в последнее время стала совершенно иной. Вы возвели ограждения, и деревня словно душу свою потеряла. Неужели нельзя убрать эти изгороди и восстановить общинные земли? Когда я сюда приехал, я только и слышал буквально от каждого, что никто не знает эту землю лучше вас, что никто не любит ее так, как вы, что вы – это сердце Широкого Дола. А теперь все говорят, что вы забыли и все свои знания, и всю свою любовь; забыли, что эти люди – ваши люди. Неужели нельзя все это восстановить, вернуть, чтобы все было как прежде?
Я холодно на него посмотрела; он тоже находился по ту сторону невидимой стеклянной стены, которая теперь отделяла меня ото всех.
– Нет, – сказала я. – Слишком поздно. В этом году им придется покупать зерно по высокой цене или же обходиться вовсе без зерна. Вы можете сказать им, что на будущий год все будет гораздо лучше, но в этом году Широкий Дол просто вынужден продавать зерно на лондонском рынке. Если Широкий Дол не сможет нормально развиваться и процветать, от этого всем будет только хуже. И они это прекрасно понимают. Обеспечивая процветание Широкого Дола, я обеспечиваю и их собственное процветание. Мир так уж устроен: бедным неплохо живется только в том случае, если богатые процветают. Если бедняки хотят есть, богачи должны богатеть. К сожалению, таков наш мир. А в настоящее время дела в Широком Доле далеко не так благополучны, чтобы все мы чувствовали себя в безопасности.
Доктор Пиерс кивнул. Роскошные обеды в Оксфорде с богатыми друзьями и родственниками-землевладельцами, выезды на охоту, танцы и балы – таким был когда-то его мир. Он тоже был одним из тех, кто искренне верит, что мир становится лучше, когда богатые богатеют. И он тоже прочел сотню умных книг, написанных исключительно для того, чтобы это доказать. Он и сам мечтал увеличить церковную десятину за счет продажи той пшеницы, которая будет выращена на новых полях. Он, как и я, принадлежал к классу богатых. И при всем беспокойстве глаза у него заблестели при виде той картины, которую перед ним изобразила я – того естественного и неизбежного процесса, во время которого мы, богатые, только выигрываем, выигрываем и выигрываем, и никто не может нас ни обвинить в этом, ни обыграть нас.
– Вот только дети… – слабым голосом промямлил доктор Пиерс.
– Я знаю, – сказала я и, сунув руку в ящик своего стола, вытащила гинею. – Вот, купите детям какие-нибудь игрушки, или сласти, или немного еды.
– У них такие маленькие гробики, – продолжал он тихо, словно не слыша меня и разговаривая с самим собой. – Отцы обычно несут такой гробик сами – он ведь такой легкий. Помощь им не нужна. Потому что эти дети умирают от голода и весят не больше, чем новорожденные. А ручки и ножки у них как сухие веточки. Когда такой гробик опускают в могилу, она такая маленькая…
Я довольно громко шлепнула по столу пачкой бумаг, чтобы напомнить викарию, где он находится. Он на меня не смотрел. Он смотрел в окно, но вряд ли видел бутоны чайных роз и пышные грозди душистой белой сирени.
– У вас есть ко мне что-то еще? – резко спросила я. Он вздрогнул и потянулся за шляпой.
– Нет, – сказал он. – Простите, что побеспокоил. – И он без малейшей тени упрека поцеловал мне руку и удалился.
Хорош герой и защитник бедняков! Я смотрела, как его лоснящийся коренастый конь иноходью удаляется по аллее, покачивая округлым крупом. Ничего удивительного, что крестьяне мечтают о настоящем мстителе. Мечтают, чтобы этот человек скакал впереди на лихом коне, точно сам дьявол, и был способен повести бедняков в атаку на сытых богачей, которые ездят на хорошо откормленных конях, едят изысканные кушанья и пьют самые лучшие вина. Пока этот любящий уют и комфорт викарий, послушный слуга своих господ, пытается наладить отношения между мной и жителями деревни, они имеют весьма ненадежную защиту. Они, должно быть, думают – а на самом деле им бы давно уже следовало это понять, – что весь этот мир против них. Что для меня и таких, как я – для людей, которые едят четыре раза в день, – бедные существуют, только чтобы работать. А если для них нет работы, тогда им незачем и жить.
В дверь постучали, и в комнату вошла няня Ричарда.
– Вы хотите повидать мастера Ричарда до обеда? – спросила она.
– Нет, – устало ответила я. – Вы лучше погуляйте с ним в саду, тогда я смогу хоть из окна на него посмотреть.
Она кивнула, и через несколько минут я уже видела, как она наклоняется над моим сыном, помогая ему переходить от одного яркого куста роз к другому, и терпеливо поднимает с земли очередной розовый лепесток и дает ему, а потом с упреком вынимает этот лепесток у него изо рта.
Толстое оконное стекло в моем кабинете заглушало почти все звуки. Я едва слышала звонкий голосок моего сына, но совсем не могла разобрать слов, которые он с таким трудом пытается произнести, чтобы выразить свою радость по поводу камешков под ногами, яркого лепестка у него в руке и солнечного света на его мордашке. Когда смотришь сквозь такое толстое стекло, кажется, что пейзаж лишился всех своих красок. А мелкие пузырьки и щербинки в стекле делали Ричарда и его няню как бы еще более далекими, словно это было не оконное стекло, а линза подзорной трубы, повернутая не той стороной. Я все смотрела на своего сына, и мне казалось, что он с каждой минутой все больше уменьшается, все дальше и дальше отодвигается от меня, превращаясь в далекую маленькую фигурку абстрактного мальчика, залитого солнечным светом. Слишком далекую, чтобы я могла признать в этой фигурке собственного сына. И голоса его я больше уже совсем не слышала.
Глава девятнадцатая
Новости, которые доктор Пиерс принес в деревню, только подтвердили страхи крестьян, и когда мы подъехали к церкви в летних платьях из шелка и атласа, их лица показались мне столь же насупленными, как обычно. Селия и я шли впереди, направляясь к нашей фамильной скамье, и шлейфы наших платьев шуршали по полу центрального нефа. Следом за нами шли Гарри и Джон, а также две няни с детьми. Джулия шла сама, только очень медленно и все время самым непредсказуемым образом сворачивая куда-то в сторону, а Ричарда несла на руках миссис Остин.
Итак, я шла по церкви, шурша серым шелковым платьем, и на голове у меня была новая атласная шляпа с широким шелковым бантом под подбородком, но я все время испытывала какое-то легкое беспокойство – так шумит ветерок в верхушках сосен даже в безветренный летний день. Я скосила глаза в одну сторону, потом в другую, и от того, что я увидела, у меня перехватило дыхание. Я прямо-таки похолодела от ужаса.
Вдоль всего прохода были выставлены мозолистые руки крестьян. Едва услышав стук моих каблучков по каменному полу церкви, все они тут же скрестили пальцы, защищая себя от нечистой силы – указательный палец сверху большого. Это считалось самой надежной защитой от ведьмы – тайный знак креста, который можно было исполнить хоть одной рукой, хоть обеими. Я шла изящной, легкой походкой, высоко подняв голову, мимо этих бесчисленных рук, пальцы которых были сложены в языческом жесте. Но больше я не смотрела ни направо, ни налево, чувствуя, что их ненависть и страх тянутся следом за мной, точно шлейф бального платья.
Как только я оказалась в нашей фамильной ложе и за нами закрылась спасительная дверь, я сразу же села так, чтобы снизу был виден только серый верх моей шелковой шляпы. Я скорчилась, уронив голову на руки, словно молилась, но на самом деле никому я не молилась – просто пыталась охладить пылающий лоб, прижимая к нему ледяные пальцы; пыталась изгнать из своей души воспоминания об этих честных мозолистых руках, об этом тайном знаке креста, которым крестьяне хотели от меня защититься, отогнать от себя то зло, которое, как им казалось, я несу в себе.
Доктор Пиерс прочел хорошую проповедь. Я слушала с каменным лицом. Для проповеди он выбрал весьма двусмысленное библейское наставление о необходимости подчиниться воле Кесаря и сделал из этого убедительный вывод о том, что следует всегда оставаться в согласии с правящими властями – как бы эти власти ни поступали с собственным народом. Сомневаюсь, что хоть кто-то из прихожан его слушал. В церкви стоял непрекращающийся шум, потому что очень многие кашляли, и этот сухой кашель, безусловно, означал чахотку. Кашляли и дети – задыхаясь, давясь мокротой, точно все они были больны плевритом. У задней стены непрерывно плакал какой-то голодный младенец – тоненьким унылым плачем. Даже в своей собственной церкви, уютной, украшенной богатыми панелями, с мягкими подушками на сиденьях, нам не было покоя. Даже когда викарий сказал, неуверенно глядя на Гарри и на меня, что, согласно слову Господа, мы всегда можем поступать так, как нам нравится, мне легче не стало.
После заключительного псалма я снова прошла по центральному нефу к выходу и на каждом шагу ощущала равнодушно-презрительные взгляды крестьян, но все же заметила, что на Селию, шедшую на полшага впереди, кое-кто поглядывает с искренней теплотой. Мы давно уже не задерживались на церковном дворе, чтобы поздороваться с арендаторами. Эта традиция себя исчерпала. Но когда мы уже шли к карете, я краем глаза заметила коренастую фигуру нашего мельника, Билла Грина, который выбежал из дверей церкви и бросился нам наперерез.
– Мисс Беатрис! – крикнул он и тут же прибавил: – Добрый день, сквайр, леди Лейси, доктор Мак-Эндрю, – словно вспомнив о хороших манерах и о том, что сперва нужно поздороваться. Я уже садилась в карету, когда передо мной вновь возникло его встревоженное лицо. – Мисс Беатрис, мне необходимо поговорить с вами. Могу я сегодня прийти в усадьбу?
– В воскресенье? – удивилась я, неодобрительно приподняв бровь.

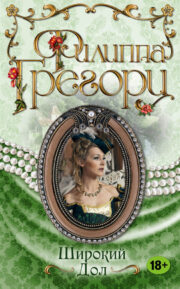
"Широкий Дол" отзывы
Отзывы читателей о книге "Широкий Дол". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Широкий Дол" друзьям в соцсетях.