– Ничуть, – сказала я, без малейшей любви улыбаясь им. – Как вы все великолепно выглядите! Мне после работы в поле понадобилось бы несколько часов, чтобы достигнуть подобного совершенства. Оставьте меня вместе с моей грязью дома, а завтра расскажете, как прошел этот визит.
– Если хочешь, мы можем снова послать карету – за тобой, – сказала Селия, усаживаясь и аккуратно расправляя на сиденье свое серое шелковое платье.
– Нет, нет, – поспешно ответила я. – Я действительно страшно устала и мечтаю только о том, чтобы вымыться и лечь в постель. И потом, завтра я снова должна рано встать, чтобы выйти в поле вместе со жнецами.
Селия кивнула, а Гарри, проходя мимо, наклонился и поцеловал меня в щеку.
– Спасибо тебе, моя дорогая, – сказал он. – Ты настоящая хозяйка Широкого Дола!
Я улыбнулась ему в ответ, но взгляд мой тут же стал настороженным, поскольку Джон взял меня за руку и любезно пожелал мне спокойной ночи и удачного завтрашнего дня.
– Ты выглядишь усталой, Беатрис, – сказал он, внимательно на меня глядя.
– Я невообразимо устала! – с улыбкой призналась я. – Но, надеюсь, горячая ванна приведет меня в норму. И сытный ужин. Боюсь, я бы попросту объела леди Хейверинг, если бы поехала с вами.
Улыбка, появившаяся на губах Джона, так и не добралась до его глаз; впрочем, и меня отнюдь не согрела моя безрадостная шутка.
– Да, – сказал он. – В этом году у нас действительно получается какой-то голодный сбор урожая.
Он выпустил мою руку и сел в карету вместе с Гарри и Селией, и эта странная троица в полном согласии покатила прочь. В тот вечер я их больше не видела. После того как я приложила все усилия, чтобы изгнать из своего усталого тела боль с помощью обжигающей ванны, я с наслаждением съела ужин, которого с лихвой хватило бы на двоих, и закопалась в постель, точно ежик, готовящийся к зимней спячке. Но прежде чем уснуть, я снова испытала в душе странную острую боль, вспомнив скрытые слезы в глазах молодого Роджерса. Однако боль эта быстро прошла. Ничто не могло ни тронуть, ни поколебать меня в жаркие дни этой печальной жатвы.
В последующие дни я мало видела Гарри, Селию или Джона. Начинался августовский всплеск светской жизни, а это означало пикники, праздники, ярмарки в Чичестере, летние пирушки, театральные представления и поздние балы. Для меня же август означал только сбор урожая и ничего более. Я действительно лишь однажды заметила ту веселую жизнь, которую ведет Селия, когда она потребовала лошадей, чтобы заложить карету, а я ей отказала, потому что велела всех лошадей использовать для перевозки зерна. И Селия, самая очаровательная забавница, какую видел свет, даже не нахмурившись, тут же отменила пикник и вместо него устроила у нас в саду праздник для детей. Она смеялась и танцевала в беседке среди роз, а Джон аккомпанировал ей на гитаре, и казалось, будто ей все равно, поехала она на пикник или на бал или осталась с детьми и теперь старается их развлечь. Я слышала ее смех и ее легкие шаги по деревянным полам, пока сидела за письменным столом и делала последние подсчеты, готовясь выплачивать жалованье. За окном я видела, как мой сын, Джулия и Селия, взявшись за руки, водят хоровод среди роз.
Я, впрочем, не испытывала ни малейших сожалений от того, что вынуждена сидеть в закрытом помещении, тогда как они веселятся на солнышке. Маленькие ножки Ричарда день ото дня становились все смуглее, а на его мордашке цвела россыпь веснушек, как на яйце чибиса, но я ничего не имела против того, чтобы видеть его только сквозь оконное стекло. Итогом моей тяжкой работы этим летом должно было стать то, что меня больше не охватит страх, когда я открою ящик со счетами. Под одним тяжелым стеклянным пресс-папье лежала стопка ужасающих квартальных требований от моих кредиторов, от держателей моих залоговых обязательств и от прочих людей, дававших мне в долг. Но под другим пресс-папье был листок с подсчетами будущих доходов от каждого из пшеничных полей. И каждый наполненный солнцем долгий день, пока жнецы, потея, взмахивали своими серпами, а я без движения сидела верхом на Тобермори в тени, если, конечно, мне удавалось эту тень найти, приближал Широкий Дол к вожделенному равновесию. Если сухая погода еще продержится и если на несжатых полях урожай будет столь же хорош, мы, возможно, сумеем даже получить некую прибыль.
Этим летом я, по сути дела, вела жизнь вульгарного управляющего имением, но ничего: на будущий год я постараюсь быть такой же веселой и всеми любимой, как Селия. Одно лето, всего одно лето я была вынуждена либо торчать взаперти, подсчитывая доходы, либо весь день проводить в поле, присматривая за возможными расхитителями и саботажниками. Но к следующему лету я непременно снова стану самой хорошенькой девушкой в нашем графстве. И следующим летом я сама буду всему учить Ричарда, и он будет танцевать со мной, а не с Селией. Через год я уже не буду чувствовать в своей душе этого мертвящего холода. Я снова стану веселой, счастливой и такой же легкой и простой в общении, как Селия.
В дверь тихонько постучались. Оказалось, что это Гарри, одетый, с его точки зрения, самым подходящим образом для участия в жатве. Вместо темных шелковых панталон и камзола он надел клетчатые домотканые штаны, но оставил свою рубашку из тонкого льняного полотна и блестящие кожаные сапожки для верховой езды. Он выглядел как те «селяне», которых изображают на своих картинах некоторые неважнецкие художники. По-моему, это была просто жестокая пародия на того молодого золотоволосого бога, который всего лишь три года назад привез на мельницу урожай пшеницы. Тогда округлое лицо Гарри было юным, покрытым золотистым загаром, а теперь оно стало пухлым, даже жирным, и от жары щеки его были вечно покрыты ярко-красным румянцем. Если прежде черты его лица были четкими, как у греческой статуи, то теперь профиль его расплылся, да и мясистые щеки и двойной подбородок тоже украшением не служили. И тело Гарри, тело гибкого молодого бога, теперь стало телом самого обычного человека, который к тому же выглядит старше своих лет, потому что слишком снисходительно к себе относится и обладает весьма заметным избыточным весом.
Гарри вообще утратил многое из того, что обещала его юность, в том числе пытливый, хотя и несколько книжный, ум и сообразительность. Тот Гарри, что когда-то был школяром и обладал страстной любовью к книгам и процессу познания, был несколько сбит с пути царившими в школе развратными и жестокими нравами и тем, что обнаружил в себе тягу к извращенным наслаждениям. И теперь он читал исключительно книги о сельскохозяйственных машинах и инструментах, а также всякие странные модные романы, да порой еще рассказы о всевозможных наказаниях и мучительных пытках, которые хранил в потайном ящике на чердаке.
Он был очень похож на нашу мать. И всегда старался избегать любых неприятных сцен или неприятной правды; он жаловался, что подобные вещи вызывают у него боль в груди. И всегда был готов сам воспользоваться первой же удобной ложью или принять лживые заверения других, лишь бы не сталкиваться лицом к лицу с жестокой действительностью.
Впрочем, в чем-то Гарри был похож и на меня. Мы оба были одержимыми детьми, но если я была одержимая нашей землей, Широким Долом, то для Гарри самым главным в жизни являлись его собственные удовольствия и умение оправдывать себя во всем. И он позволял себе толстеть, злоупотребляя вкусной и обильной едой и сладкой выпечкой, и все больше краснел лицом из-за чрезмерной любви к порто. А еще он стал весьма ленив и неряшлив в отношении собственного тела, потому что стремился получить наказание, дарившее ему такое острое наслаждение, а отнюдь не к чистой, свободной, равноправной любви.
И вот теперь он оделся как артист из бродячего театра в роли принца-нищего, собираясь работать бок о бок с голодными оборванными людьми, которые получают жалкие гроши. Я подумала о том, что деревенские парни, работающие сейчас в поле, вряд ли могут наскрести денег, чтобы сшить хотя бы одну приличную рубашку на всех, и вздохнула, глянув на нелепо сияющего Гарри.
– Я подумал, что, пожалуй, подъеду в поле на одной из повозок и тоже немного пожну, – с восторгом сообщил он мне, точно мальчишка. – Они ведь сейчас на Дубовом лугу работают, верно?
– Нет, – сказала я. – Там они работали два дня назад. Сейчас они на Трехвратном. Я туда позже подъеду, а ты пока можешь проследить за сбором колосков, если поедешь. Я тебе говорила, что запретила им воровать пшеницу, помнишь?
– Да, – сказал Гарри. – Ладно, я, наверное, пробуду там до обеда. А если не вернусь к трем, пришли, пожалуйста, кого-нибудь из конюхов, чтобы он привез мне поесть.
У меня мелькнула мысль, что надо бы предупредить Гарри, чтобы он был осторожен, но я позволила этой мысли угаснуть. Если ему так уж хочется изображать джентльмена-земледельца, это вряд ли сильно усугубит положение. Та горечь, что уже существует в наших отношениях с деревней, вряд ли может стать еще более горькой. И потом, я отлично помнила, что взяла на себя всю вину за те перемены, что происходят в нашем поместье. Если Гарри удастся снова завоевать сердца крестьян, если они опять увидят в нем божество урожая, это, возможно, несколько ослабит напряжение. В таком случае у них в этом году будет довольно-таки пухлое божество и далеко не такое загорелое и мускулистое, как три года назад. Но если им будет приятно, что молодой сквайр встал в один ряд с простыми жнецами, они, может быть, и работать будут немного быстрее.
Гарри плюхнулся на возок и затянул песенку, которую почему-то считал деревенской, с бесконечными припевами вроде «хэй-нонни-но!» – я лично подобной песни никогда не слышала ни от одного из местных крестьян, даже пребывавших в сильном подпитии. А когда его возок заскрипел по подъездной аллее, он, усевшись рядом с возницей, стал махать рукой Селии и детям.
Назад он вернулся уже через час, и я даже издали увидела, насколько мрачное у него лицо. Я отодвинула с сторону письмо, которое писала, и стала ждать его горестного рассказа. Вскоре громко хлопнула дверь, ведущая в западное крыло, и я ощутила волну горячего воздуха, когда Гарри без стука влетел ко мне в кабинет.
– Они меня оскорбили! – заявил он, и его нижняя губа задрожала от ярости и огорчения. – Они даже разговаривать со мной не пожелали! И не захотели петь те песни, которые мы пели всегда. Они даже не посторонились, чтобы дать мне место в ряду жнецов, а попросту вытеснили меня к самой изгороди. И ни одна девушка мне не улыбнулась! А когда я предложил: «Давайте споем, ребята!», один сказал: «Нам так мало платят, сквайр, что даже на то, чтобы дышать, не хватает, куда уж нам петь. Вы лучше сделайте так, чтобы ваша сестрица, у которой глаза как кремни, платила нам по справедливости, вот тогда мы, пожалуй, и станем петь, как эти проклятущие черные дрозды, чтобы вам удовольствие доставить. Но пока нам жрать нечего, пойте сами!»
– Кто это сказал? – быстро спросила я. – Я немедленно вышвырну его из поместья.
– Откуда же я знаю? – даже с какой-то обидой воскликнул Гарри. – В отличие от тебя, я их и друг от друга-то не отличаю, и уж совсем не знаю, как кого зовут. Они для меня все на одно лицо. Да у них и лица-то какие-то смазанные, без особенностей. Этот был довольно пожилой, но я не знаю, кто он. Зато другие наверняка знают.
– Ну да, и они, конечно, тут же мне скажут! – рассердилась я. – Ну, и что ты с ним сделал?
– Ничего! Уехал домой! – с негодованием ответил Гарри. – А что я еще мог сделать? Если уж я не могу убирать урожай в собственных полях, то уж приехать домой к обеду я точно могу. Ты думаешь, они обрадовались, что их сквайр вышел в поле и работает с ними бок о бок? Если уж они так хотят, чтобы все было по-старому, так нужно же как-то соответствовать традициям!
– Действительно, – сухо бросила я. – А что, далеко ли они продвинулись?
– Ах, да я едва успел что-то заметить! Я так расстроился! – беспомощно развел руками Гарри. – Нет, право, Беатрис, это уж слишком. Могу тебя заверить, что больше этим летом я в поле не поеду. Тебе придется самой за всем присматривать, а если тебе будет слишком тяжело, то пусть это делает Джон Брайен. Ведь недопустимо, чтобы меня, сквайра, подвергали таким оскорблениям!
– Ну, хорошо, – устало сказала я. – Ступай. Успокойся, выпей кофе с печеньем, и сразу почувствуешь себя гораздо лучше.
– Но почему они так со мной разговаривали? – снова огорченно спросил Гарри, и на его лице отчетливо проявилась работа мысли. – Разве они не понимают, что так теперь развивается весь мир?
– Похоже, что нет.
– У меня болит вот тут, в груди, когда я огорчаюсь, – сказал Гарри, и в его голосе послышались плаксивые нотки капризного ребенка. – Мне очень вредны подобные сцены. А этим людям давно пора понять, что мы делаем для них все, что можем. И работу мы даем, и благотворительностью занимаемся! Селия, например, каждую неделю тратит по нескольку фунтов на суп и хлеб для бедных. А тут еще этот праздничный обед в честь урожая! Недешево он нам обойдется. И, между прочим, никакой благодарности мы за это не получим!

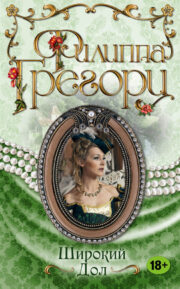
"Широкий Дол" отзывы
Отзывы читателей о книге "Широкий Дол". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Широкий Дол" друзьям в соцсетях.