– Любовь моя, – сказала я. Да, пусть он многословный, напыщенный извращенец, но он сквайр, хозяин Широкого Дола, и я хотела, чтобы он принадлежал мне. – О, моя любовь, – повторила я.
Но спать я легла в свою собственную постель; и впервые с тех пор, как погиб мой отец и был искалечен Ральф, мой сон был по-настоящему крепок и сладок. Мой милый, любимый Гарри снял с меня прежнее, поистине чудовищное напряжение, и я, наконец, смогла отдохнуть. Ни разу в ту ночь мне не мерещился ни страшный щелчок пружины чудовищного капкана, поставленного на людей, ни сводящий с ума треск ломающихся костей. И я ни разу не проснулась, как от толчка, потому что мне снова почудился за дверью лязг металлических челюстей, зажавших изуродованные ноги Ральфа, который все цеплялся за дверь моей спальни, все пытался ее открыть и вползти туда. Мой дорогой Гарри освободил меня. Наш «золотой мальчик» выпустил меня из темницы душевных страданий, и в сердце моем больше не осталось ни боли, ни страха, ни страстной тоски по тем, кого я когда-то любила и кого мне больше никогда уж не увидеть на этой земле.
Эта утрата казалась мне теперь частью естественного порядка вещей. Занимаясь земледелием, приходится нарушать земной покров, рыть в нем дренажные канавы, чтобы заставить землю цвести и плодоносить. Я просто кое от чего избавилась; я приказала совершить выбраковку – так отбраковывается нагульный скот. И теперь на этой земле началась новая жизнь; у нее появился новый молодой хозяин, и доказательством того, что я поступила правильно, было то, что будущее в моем любимом Широком Доле представлялось мне очень ярким, солнечным и безопасным.
Стоя возле туалетного столика, я так и сяк наклоняла свое небольшое зеркало, разглядывая себя и пытаясь понять, какое впечатление мое тело производит на Гарри. Заметив на левой груди синяк – там отчетливо отпечатались зубы Гарри, – я с некоторым удивлением до него дотронулась, не понимая, как это могло случиться. Ведь он, должно быть, довольно сильно меня укусил, но я даже боли никакой не помнила. В лучах утреннего солнца моя кожа светилась и была похожа на зрелый плод персика, только и ждущего, чтобы его сорвали. Я была хороша вся – от ступней с красивым высоким подъемом до медных кудрей, обрамлявших лицо и теплой щекочущей волной падавших на обнаженные плечи и спину. Я понимала, что прямо-таки создана для любви. Снова упав на постель, так что волосы мои разметались по подушке, я вытянула шею и попыталась увидеть себя в зеркале такой, какой видел меня Гарри, когда овладел мной в той заросшей травой лощине или на полу в столовой. Я лежала, широко раскрыв глаза и раскинув ноги, и все больше убеждалась, что Гарри вскоре непременно снова придет ко мне. Сейчас ведь еще совсем рано, убеждала я себя, и моя горничная заглянет ко мне в лучшем случае через час; а моя мать никакой опасности не представляет, ибо наверняка еще спит, одурманенная своими лекарствами. Так что мы с Гарри могли бы сейчас лежать рядом, а после завтрака снова тайком пробраться куда-нибудь в холмы или в лес…
Я даже не пошевелилась, услышав под своей дверью шаги. Я лишь лениво повернула голову к двери и улыбнулась, заранее приветствуя Гарри. Но вместо него на пороге… Боже, я так и подскочила, словно ошпаренная! В дверях стояла моя мать, которая спокойно сказала:
– Отчего ты лежишь совсем голая, детка? Ты же насмерть простудишься! Зачем ты сбросила одеяло?
Я молчала, лениво хлопая глазами, словно спросонья. А что еще я могла сделать в эту минуту?
– Ты что, только проснулась? – спросила мама, и я, зевнув, с самым беспечным видом потянулась за ночной рубашкой.
– Да, – сказала я, надевая рубашку, – ночью мне, видимо, было слишком жарко, и я сбросила одеяло и рубашку. – Прикрыв тело, я почувствовала себя несколько уверенней, но в глубине души испытывала саднящее раздражение – я злилась и на себя из-за того, что так дергалась и вела себя, словно в чем-то виновата, и на мать, которая вошла ко мне в спальню, даже не постучавшись, словно не я, а она здесь хозяйка.
– Я так рада, мама, что вы снова на ногах! – с улыбкой сказала я. – Но вы уверены, что достаточно хорошо себя чувствуете? Может, после завтрака вам лучше вернуться к себе и прилечь?
– Ох, нет! – сказала мама так бодро, словно ни разу в жизни не проболела ни одного дня. Потом, шурша утренним капотом, подошла к окну, уселась на подоконник и заявила: – Я прекрасно себя чувствую! Ты же знаешь, у меня всегда после приступа такое ощущение, словно я никогда в жизни больше не заболею. Но что с тобой, Беатрис? – Она прищурилась и так внимательно на меня посмотрела, что я невольно села в кровати. – Ты сегодня как-то невероятно хороша, вся прямо-таки сияешь! У тебя какая-то радость? Случилось что-то приятное?
Я улыбнулась, пожала плечами и сказала, стараясь уйти от этой темы:
– Да нет, ничего особенного не случилось. Просто вчера мы с Гарри ездили кататься в холмы, и я вдруг снова почувствовала себя такой счастливой, так радовалась возможности снова ездить верхом! Да и погода была просто чудесная.
Мама кивнула.
– Тебе нужно почаще выезжать из дома, – сказала она. – И хорошо бы освободить кого-то из грумов, чтобы он тебя сопровождал, тогда ты сможешь куда угодно ездить верхом. Но, боюсь, сейчас все конюхи заняты, а все лошади отправлены в поле. Вот когда Гарри женится, Селия станет для тебя отличной спутницей. Ты можешь и ее научить ездить верхом, и вы будете вместе выезжать на прогулки.
– Это было бы чудесно, – рассеянно промолвила я и сменила тему, заговорив с мамой об одежде. Она сказала, что страшно рада избавиться, наконец, от тяжелых черных платьев, которые мы были вынуждены носить все последнее время, предложила мне заказать себе какое-нибудь хорошенькое платье к свадьбе Гарри.
– Только не слишком яркое, – сказала она. – А потом, пока они будут в отъезде, мы с тобой придумаем какой-нибудь праздник, чтобы отметить их возвращение из свадебного путешествия и заодно устроить для тебя первый бал. А потом ты вместе с Селией сможешь чаще посещать другие дома, а если Хейверинги соберутся в Лондон, ты тоже сможешь поехать с ними вместе.
Я собиралась налить воду в таз для умывания, но так и замерла с кувшином в руках.
– Они отправятся в свадебное путешествие? – тупо спросила я.
– Ну, конечно, – подтвердила мать. – Сейчас это так модно. Они намерены совершить свадебный тур по Франции и Италии – разве они тебе об этом не говорили? Селия хочет рисовать тамошние пейзажи, а Гарри намерен посетить несколько ферм, о которых читал в своих умных книжках. Я-то как раз против подобного марафона, да и ты, по-моему, тоже от этого не в восторге. Но раз они оба хотят поехать, пусть едут и получат как можно больше удовольствия. А мы с тобой будем вместе коротать время здесь. Впрочем, ты, моя дорогая бедняжка, скорее всего, будешь постоянно занята: тебе ведь придется вместо Гарри присматривать за посевом озимых.
Я, склонив голову над тазом, плеснула себе в лицо холодной водой и, не поднимая головы, как слепая, потянулась за полотенцем. Мне не хотелось, чтобы мама видела выражение моего лица, ибо я не сумела сдержать слезы гнева и страха. Зарывшись лицом в мягкое полотенце, я прижала его к глазам – их так и жгли горячие слезы. Нет, несчастной я себя не чувствовала; зато я чувствовала, что в данный момент вполне способна убить. Или, по крайней мере, ударить. Мне, например, очень хотелось в кровь разбить хорошенькое личико Селии и выцарапать ее коричневые телячьи глаза. Мне хотелось заставить Гарри страдать всеми муками грешников; хотелось, чтобы он полз ко мне на коленях и молил о прощении. И поистине невыносимую боль причиняла мне мысль о том, что Гарри и Селия будут постоянно оставаться наедине, и путешествуя в почтовой карете, и останавливаясь в гостиницах, и обедая лишь в обществе друг друга, без родственников и друзей. Они будут иметь полную возможность в любой момент ускользнуть куда-то и целоваться или ласкать друг друга, если им того захочется. Я же, изнывая от страсти и одиночества, буду вынуждена ждать возвращения Гарри, точно никому не нужная старая дева!
А еще я злилась потому, что всего несколько часов назад, прошлой ночью, лежа с Гарри на жестком полу, я была совершенно счастлива и уверена в том, что мою жизнь никогда больше не будут планировать другие, что моя судьба не станет, как плющ, обвиваться вокруг чужой судьбы, опираясь на нее. Я была уверена, что в моих руках и сердце Гарри, и тайный ключ к его извращенной чувственности, а значит, и ключ от Широкого Дола. И вот теперь моя мать сообщает мне новость о том, что Гарри и Селия планируют длительный свадебный вояж, а я обладаю не большей значимостью в семье, чем любая другая дочь, да еще и младшая.
– Это идея Гарри? – спросила я, выныривая из-под полотенца и начиная одеваться, но стараясь не поворачиваться лицом к матери, сидевшей на подоконнике.
– Нет, они это вместе придумали. Ты же знаешь, они вечно вместе распевают всякие итальянские песенки, – благодушно сказала она, – вот Гарри и пришло в голову, что Селии, наверно, понравилось бы послушать эти песни в исполнении самих итальянцев. Да мало ли какие еще глупости они могли напридумывать. Они, правда, обещали, что поедут ненадолго, всего месяца на два-три. И к Рождеству уже будут дома.
Я невольно охнула, но мама, к счастью, этого не расслышала; а я поспешно отвернулась, якобы расчесывая перед зеркалом волосы, чтобы она не заметила, как побелело мое лицо. Вся моя старая боль, все мои страстные мечты о надежной руке, на которую я могла бы опереться, о любви, которой я могла бы верить всем сердцем, – все это вновь на меня нахлынуло. Но теперь та боль стала гораздо сильнее – ведь я отдалась Гарри и знала, что это значит: быть им любимой. Я, возможно, сумела бы прожить без его любви. Как сумела бы прожить и не будучи главной в Широком Доле. Но я понимала, что не смогу жить и без того, и без другого. Тем более невыносимо было представить себе, что вскоре другая женщина обретет здесь и любовь, и власть. Если Селия станет для Гарри любимой женой, то уже ничто не помешает моей матери доминировать надо мной. Ничто не спасет меня от пустой и бессмысленной жизни дочери, покорной долгу. Ничто не помешает матери выдать меня за первого же подходящего жениха, который бог знает откуда появится на нашем пути. Если я сейчас потеряю Гарри, я потеряю все самое желанное в жизни – и любовь, и наслаждение, и землю. В точности как и говорил Ральф.
Нет, их поездке необходимо помешать! Я прекрасно понимала – потому что знала Гарри: если он в течение двух месяцев будет находиться наедине с Селией, то непременно в нее влюбится. Да и она не устоит перед ним. Разве можно долго сопротивляться его очарованию? Я не раз видела, как нежно он способен обращаться с перепуганным жеребенком или с раненой гончей, и знала, что он гордится своим умением понимать других и своей способностью завоевывать доверие любого робкого существа. Он будет считать, что Селия холодна с ним потому, что с ней жестоко обращались дома, и поставит перед собой цель приручить ее, стать ей другом. А потом, узнав ее получше, поймет, что лучшую жену ему вряд ли удалось бы для себя отыскать.
Под застенчивостью и оборонительной холодностью Селия скрывала свою теплую и любящую душу. У нее определенно были и некие зачатки юмора, и Гарри нетрудно будет научиться вызывать ее легкий девичий смех и заставлять ее карие глаза весело блестеть. И они неизбежно проникнутся друг к другу симпатией, и однажды вечером после посещения оперы, или театра, или приятного обеда вдвоем Селия развеселится, подогретая вином и новой уверенностью в себе, и, когда Гарри захочет поцеловать ее, она на его поцелуй ответит. А когда он коснется ее груди, она не оттолкнет его руку, и он будет поглаживать ее по узкой гибкой спинке, нашептывая всякие нежные слова, и она будет улыбаться в ответ, потом обовьет его шею руками, и тогда… А я? Я буду им забыта!
Но ни одна из этих панических мыслей не отразилась на моем лице, пока мы с мамой спускались вниз к завтраку. Впрочем, когда мы вошли в столовую, я испытала новый приступ боли, увидев, с какой радостной улыбкой Гарри бросился к матери; однако и мне он улыбался столь солнечно и открыто. Я удовлетворилась чаем с крошечным тостом, зато Гарри был голоден как волк и буквально набросился на ветчину, холодный ростбиф, свежий хлеб, мед и тосты с маслом, а напоследок закусил еще и персиком. Мама тоже ела с аппетитом, смеялась и шутила с Гарри, словно и не была больна. Только я сидела молча на своем прежнем месте сбоку, а не в торце стола. И снова чувствовала себя никому не нужной.
– Беатрис выглядит так чудесно и кажется такой счастливой, что ей, по-моему, следовало бы чаще кататься верхом, – заметила мама, глядя, как Гарри отрезает себе еще ломоть мяса, потом прямо пальцами берется за белую полоску жира и сует в рот кусок ветчины. – Может быть, ты позаботишься о том, чтобы твоя сестра могла каждый день выезжать на прогулку? – Казалось, речь шла о какой-то домашней собачонке, которую нужно выгуливать.

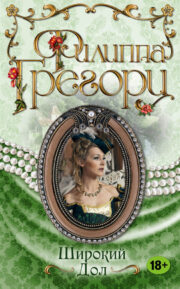
"Широкий Дол" отзывы
Отзывы читателей о книге "Широкий Дол". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Широкий Дол" друзьям в соцсетях.