Собственно, с тех пор, как началось это утреннее недомогание, я уже втайне догадывалась, в чем дело. И все же, когда у меня в положенное время не пришли месячные, я обвинила в этом нервы и чрезмерное возбуждение во время свадьбы и в начале путешествия. Но в глубине души мне все стало ясно еще недели две назад. Просто я никак не могла заставить себя повернуться к этой беде лицом. И я, уподобляясь Гарри и маме – хотя сама всегда мыслила очень трезво и отличалась решительностью, – упорно гнала от себя тревожные подозрения. Но они возвращались, и каждое солнечное утро, просыпаясь, я чувствовала себя больной и встревоженной. В течение дня, улыбаясь Гарри и болтая с Селией, я могла на какое-то время забыть об этом, успокоить себя необременительной ложью, что я совершенно здорова, а мое недомогание просто связано с переменой мест, с нашим путешествием. А ночью, лежа в объятиях Гарри и побуждая его проникать в меня как можно глубже, я каждый раз в глубине души надеялась, что это заставит мои месячные снова прийти, но с утра все начиналось снова, и мне с каждым днем становилось все хуже. Я уже всерьез стала опасаться, что Селия со своей нежной проницательностью заметит мое состояние, а я, чувствуя себя такой усталой и одинокой, не смогу скрыть от нее свою тайну, и тогда сильнее всякого здравомыслия станет моя потребность в помощи и любви, мое желание, чтобы хоть кто-то сказал мне: «Не бойся. Ты не одна. Вместе мы с этим как-нибудь справимся».
Теперь мне было уже очень страшно, и о своем ближайшем будущем я даже думать не осмеливалась.
Я вынула из ридикюля носовой платок и, держа его в руках в качестве извинения, спустилась вниз. Селия ждала меня в холле, пока Гарри расплачивался по счетам, и радостно улыбнулась, но я не сумела улыбнуться ей в ответ, настолько были напряжены мышцы моего лица. Вероятно, я была очень бледна, потому что Селия вдруг спросила:
– Вы хорошо себя чувствуете, Беатрис?
– Отлично! – ответила я, и она, приняв мою чрезмерную краткость за нежелание говорить на эту тему, больше ни о чем меня не спросила, хотя больше всего мне хотелось расплакаться, броситься к ней в объятия и попросить ее спасти меня от той страшной угрозы, что нависла надо всем моим будущим.
Я просто представить себе не могла, как мне теперь быть.
В карету я садилась, словно всходя на эшафот. И сразу же отвернулась и уставилась в окно, чтобы охладить вечное желание Селии поболтать. Загибая под ридикюлем пальцы, я подсчитала, что уже два месяца беременна и могу ожидать разрешения от бремени в мае.
С бессильной ненавистью я смотрела на солнечный французский пейзаж, проплывающий за окном, на приземистые домики и пыльные, хорошо вскопанные сады и огороды. Эта чужая земля, эти незнакомые места тоже казались мне частью кошмара, связанного с моим затруднительным положением. Я испытывала смертельный страх, думая о том, что может случиться самое худшее: я умру во время этих позорных родов и никогда больше не увижу ни своего милого дома, ни Широкого Дола. И мое тело будет похоронено на одном из этих ужасных тесных французских кладбищ, а не возле нашей деревенской церкви, не в моих родных местах. Еле слышное рыдание вырвалось из моей груди, и Селия, оторвавшись от книги, тут же посмотрела на меня. Я чувствовала ее взгляд, но даже головы в ее сторону не повернула. Она ласково потрепала меня по плечу своей маленькой ручкой – так взрослый мог бы утешить огорченного ребенка, и этот жест немного успокоил меня, но я никак на него не ответила, лишь сморгнула навернувшиеся на глаза слезы.
Два или три дня я ехала молча; это злосчастное путешествие все продолжалось, а Гарри ничего не замечал. Когда ему становилось скучно, он перебирался на козлы и ехал рядом с возницей, чтобы лучше видеть окрестности, или нанимал лошадь и с удовольствием садился в седло. Селия посматривала на меня с нежностью и тревогой, но не вмешивалась в мои мрачные раздумья, хотя я видела, что она всегда готова поговорить со мной, выслушать меня. Но я ничего ей не говорила и старалась сохранять на лице безмятежное выражение, особенно когда Гарри был поблизости; или же просто смотрела в окно, когда мы с Селией оставались одни.
К тому времени, как мы добрались до Бордо, я успела преодолеть первый шок; разум мой перестал метаться и шататься, как пьяный. И первое, что мне пришло в голову, это избавиться от нежданной обузы. Я сказала Гарри, что хочу как следует покататься верхом, чтобы стряхнуть, наконец, с себя всякое беспокойство. Он с сомнением смотрел, как я выбираю на конюшне самого зловредного с виду жеребца и при этом настаиваю на дамском седле, хотя мне все советовали этого не делать. Что ж, все они оказались правы. Даже будучи в самой лучшей своей форме, я бы на этом жеребце не удержалась. Он сбросил меня на землю в первые же десять секунд, еще на конюшенном дворе. Меня подняли, поставили на ноги, и я даже сумела улыбнуться и сказать, что не ушиблась. Потом я сказала, что, пожалуй, сегодня лучше посижу спокойно. Целый день я сидела в своем номере и ждала. Но ничего так и не произошло. Теплые лучи осеннего французского солнца вливалось в окно, и я показала солнцу язык, отвергая все здоровое, сильное, плодоносное. Эта хорошенькая светлая комнатка вдруг показалась мне чересчур тесной; стены словно смыкались, мне нечем было дышать. У меня было ощущение, что в воздухе разлит какой-то отвратительный запах, что им провоняла вся Франция. Схватив капор, я сбежала вниз и приказала подать мне маленькое ландо, которое Гарри нанял на то время, что мы проведем в городе. Но тут следом за мной вниз неторопливо спустилась Селия и удивленно спросила:
– Вы собираетесь ехать одна, Беатрис?
– Да! – резко ответила я. – Мне необходимо подышать свежим воздухом.
– Хотите, я поеду с вами? – предложила она. Ее уклончивая манера невероятно меня раздражала в первую неделю нашего путешествия, но вскоре я поняла, что это не от недостатка ума или уверенности, а из деликатности и простого желания угодить.
Ее вопросы – «Мне пойти с вами в театр?», «Мне пообедать вместе с вами или лучше одной?» – означали просто: «Вы предпочитаете мое общество или хотите остаться наедине?», и, кстати, мы с Гарри, к своему удивлению, вскоре обнаружили, что Селия не обидится ни в том случае, если мы от ее предложения откажемся, ни если мы его примем.
– Не стоит, – сказала я. – Лучше приготовьте Гарри чай, когда он вернется. Вы же знаете, как он это любит. Тем более здешние слуги совершенно не умеют заваривать чай. А я скоро вернусь.
Селия с улыбкой кивнула и проводила меня взглядом. Я сохранила спокойствие на лице, пока ехала мимо нее и раскрытых окон отеля, но как только мы отъехали достаточно далеко, я опустила на лицо вуаль и горько расплакалась.
Я пропала, пропала, пропала! – думала я и никак не могла придумать никакого выхода. Сперва я решила, что надо все рассказать Гарри и попытаться найти решение вместе с ним. Но некий мудрый голос в глубине моей души предостерег меня от этого, требуя подождать, не поддаваться панике и не делать признаний, от которых я потом не смогу отказаться.
В Широком Доле все было бы иначе. Там я первым делом направилась бы к Мег, матери Ральфа, которую в деревне многие считали колдуньей. Но какой смысл вспоминать о Мег? И я, пожав плечами, отринула эту мысль. Я выросла в сельской местности и, как и все деревенские дети, знала, что многим девушкам – работающим в господском доме, или неудачно вышедшим замуж, или соблазненным женатым мужчиной – помогают избавиться от непредвиденных сложностей такие знахарки, как Мег, ибо им известны тайны самых разных, в том числе и ядовитых, растений. Но сама я никогда не знала, что это за растения, и наверняка никогда не смогла бы узнать, как ими пользоваться.
Несомненно, и в этом сонном французском городе, как и в любом рыночном городе, нашлась бы знахарка-травница, и она, возможно, сумела бы дать мне дельный совет. Вот только как ее найти, чтобы об этом моментально не пронюхала вся гостиница, а затем и каждый заезжий англичанин, любитель сплетен? И с «естественным» падением с лошади мне тоже не повезло – я всего лишь до смерти напугала Гарри, да и сама испугалась, когда так больно ударилась и вся исцарапалась. Но толку-то не было никакого! И этот проклятый сорняк так и остался расти во мне!
Возница остановился, ожидая дальнейших указаний, и я сердито велела ему ехать вперед.
– Вперед, вперед! – почти с яростью крикнула я. – Не останавливайтесь! Я хочу куда-нибудь за город. – Он кивнул и щелкнул хлыстом, решив подчиниться требованиям эксцентричной молодой англичанки. Вскоре карета выехала за городскую черту, и богатые особняки сменились обычными сельскими домишками, окруженными небольшими, насквозь пропыленными садами, а потом потянулись поля и бесконечные виноградники, ряды которых уходили прямо за горизонт.
Вообще-то, пейзаж был довольно приятный, но я смотрела на него с тоской: он был так не похож на мой любимый Широкий Дол! Наши округлые, зачастую покрытые буковыми рощами и чудесной зеленой травой холмы волнами катились вдаль, а здесь каждый холм был изрыт террасами, засаженными монотонными рядами виноградных лоз; казалось, здесь возделан каждый дюйм земли, и бесконечные виноградники лишь кое-где прерывались небольшими крестьянскими огородами. В эту страну, возможно, приятно приехать ненадолго, в гости, поездить по этим пыльным дорогам под жарким, таким не-английским солнцем, но жить во Франции я бы не хотела и тем более не хотела бы быть здесь бедной. Наши простые люди тоже живут далеко не богато – если бы это было иначе, я решила бы, что я переплачиваю своим работникам, – но им не приходится буквально выцарапывать свой хлеб из сухой земли, как французским крестьянам. Мы с Гарри многому научились, разъезжая по окрестностям Бордо и беседуя со здешними землевладельцами, но нас откровенно поразило, как мало они знают о своих владениях и о тех людях, что трудятся на принадлежащей им земле; как редко они заглядывают за пределы того парка, что окружает их chateau[17]. Кроме того, мы теперь были совершенно уверены, что у себя в Широком Доле ушли далеко вперед, сочетая новые способы обработки земли с традиционными надежными методами ведения хозяйства.
Меня внезапно охватила острая тоска по Широкому Долу; мне очень захотелось оказаться в родном доме, на родной земле, а не здесь, в этой чужой засушливой стране, еще и потому, что мои платья становились все тесней и в талии, и в груди. Но эта болезненная ностальгия неожиданно породила некую весьма яркую мысль, показавшуюся мне поистине гениальной и настолько меня поразившую, что я даже вскрикнула. Возница тут же снова натянул вожжи и обернулся, чтобы выяснить, не готова ли я вернуться. Я выпрямилась, махнула ему рукой, веля ехать вперед, и снова откинулась на спинку сиденья, инстинктивно прижимая ладонь к своему слегка округлившемуся животу. Этот ребенок, растущий в моем чреве, которого я всего несколько секунд назад считала зловредным сорняком, был наследником Широкого Дола. Он был моим возлюбленным сыном – я совершенно точно знала, что это мальчик! – а значит, и будущим хозяином нашего поместья, а значит, отныне мне навсегда обеспечено там вполне достойное место. Я буду хозяйкой этих, столь драгоценных для меня, акров земли во всем, кроме фамилии. Сквайром будет мой сын. Именно он станет истинным хозяином Широкого Дола!
И все для меня сразу переменилось. Моя обида на весь свет растаяла без следа. Какая ерунда – все эти мелкие неудобства и даже грядущие родовые схватки! Ведь это связано с появлением на свет моего дорогого сыночка, который вскоре родится и будет расти и расти, пока не займет то место, что принадлежит ему по праву.
И я опять вернулась к мысли о том, что, может быть, стоило бы рассказать обо всем Гарри, сыграв на его гордости по поводу того, что у него будет сын и наследник. И снова какой-то внутренний голос предостерег меня от этого и велел действовать как можно осторожней. Гарри, безусловно, принадлежал мне, и это «свадебное» путешествие служило тому лишним доказательством. Каждый вечер, когда с наступлением темноты в комнаты вносили свечи или, если мы ужинали на воздухе, зажигали светильники, взгляд Гарри неизменно обращался ко мне, и он, похоже, переставал замечать что-либо вокруг; он видел лишь блеск моих волос в мерцающем свете и следил лишь за выражением моего лица. Вскоре Селия, тихонько извинившись, вставала из-за стола, а мы с Гарри еще долго сидели вдвоем. Эти вечера и эти ночи целиком принадлежали мне; мы в течение долгих часов дарили наслаждение друг другу, а потом засыпали, крепко обнявшись. Днем, впрочем, мне приходилось делить Гарри с Селией, и я замечала, что между ними начинают возникать некие любовно-интимные отношения, но помешать этому, разумеется, никак не могла.
Впрочем, еще когда мы плыли на том распроклятом корабле, у Селии установились с Гарри очень приятные, легкие и простые отношения. Ей доставляло удовольствие быть ему полезной, утешать его, если он устал или плохо себя чувствует; ей нравилось обустраивать наши комнаты в различных отелях, так что любой самый обычный номер становился и более уютным, и более элегантным. Селия, болезненно застенчивая, страдающая от постоянной неуверенности в своем французском, тем не менее, решительно спускалась на кухню и вступала в спор с самим шеф-поваром, доказывая ему, например, что он неправильно заваривает чай. И она вполне способна была остаться на кухне до тех пор, пока все не будет сделано именно так, как нравится Гарри, хоть и вызывала своей настойчивостью неизменное негодование слуг.

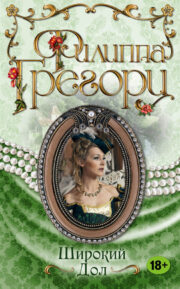
"Широкий Дол" отзывы
Отзывы читателей о книге "Широкий Дол". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Широкий Дол" друзьям в соцсетях.