Возможно, для меня эти скачки и были всего лишь довольно легкомысленным приключением, однако после них молодой доктор стал прямо-таки желанным членом нашего семейного кружка. И хотя мама ничего не говорила мне об этом, я видела, что она уже воспринимает Джона МакЭндрю как своего будущего зятя, что уже одно его присутствие в доме освобождает ее от настойчивых, неясных ей самой страхов. Так что это лето оказалось счастливым для всех нас. У Гарри исчезла всякая тревога по поводу наших владений, как только он понял, что я снова взяла на себя заботу о поместье, что в этом отношении на меня можно полностью положиться, что я сумею оградить его от очередных невежественных ошибок и в земледелии, и в обращении с людьми. Привезенные виноградные лозы прекрасно прижились на чуждой им английской почве, и это стало для Гарри истинным триумфом его экспериментаторского энтузиазма, его маленькой победой над моей приверженностью к старым способам хозяйствования, и я с радостью за ним эту победу признала. Впрочем, хватит ли у нас солнечного света, чтобы маленькие завязи превратились в сочные сладкие виноградные грозди – этого никак не мог гарантировать даже мой самоуверенный братец. Однако это был интересный опыт, явно стоивший некоторых усилий; было бы замечательно, если бы мы в Широком Доле смогли выращивать столь ценную новую культуру и даже производить такой новый продукт, как свое вино.
Мама тоже была счастлива: Гарри все время улыбался, а я выглядела на редкость спокойной и всем довольной. Но еще важнее для нее оказалась роль любящей бабушки. Я только теперь поняла, до какой степени ее нежное отношение к детям страдало от моего болезненного стремления к независимости, а также от той дурацкой условности, согласно которой детей следовало держать в детской вне досягаемости для всех остальных, в том числе и матери. Но при Селии в доме установилась атмосфера всеобщей любви и весьма снисходительного отношения к установленным светом традициям, так что «нашего маленького ангела» никогда не изгоняли из гостиной, если не считать кормлений и необходимого дневного и ночного сна. Джулию никогда не оставляли плакать в одиночестве в темной детской. Ее никогда не бросали в доме под присмотром одних лишь не слишком внимательных слуг. И наша маленькая Джулия воспринимала жизнь, как один сплошной долгий праздник, полный ласк, поцелуев, развлечений, игр и песен, и забавляли девочку не только обожавший ее отец и любящая мать, но и столь же помешанная на ней бабушка. И видя, каким счастьем сияет лицо моей матери в ответ на радостное воркование, доносящееся из колыбели, лишь человек с каменным сердцем мог не заметить, какая благословенная река любви струится меж ними.
Я тоже порой тосковала по своей маленькой дочке, хоть, безусловно, и не относилась к числу тех женщин, которые чувствуют себя не у дел, если за их подол не цепляется младенец. Но, Господь тому свидетель, маленькая Джулия была, по-моему, ребенком совершенно особенным. Пожалуй, даже больше того: она до такой степени была плоть от плоти моей, что раньше я даже вообразить этого не могла. Я видела знакомый отблеск рыжины в ее волосах; я видела, с какой легкой, искренней радостью воспринимает она мой любимый Широкий Дол, выражая это ликующим воркованием, когда ее оставляли вместе с колыбелькой в саду. Джулия была целиком и полностью моим ребенком, и я тосковала, не имея возможности с ней общаться. Проницательный взгляд Селии был постоянно устремлен на меня, и я понимала, что она не позволит мне ни взять девочку из колыбели, ни поиграть с ней, ни – и это особенно подчеркивалось – отправиться с ней на прогулку по Широкому Долу, дать ей попробовать хоть чуточку, хоть самую малость настоящего деревенского детства.
Что же касается самой Селии, то она была прямо-таки окутана облаками счастья. Большая часть ее времени и внимания была, разумеется, отдана ребенку, и она приобрела какую-то чудесную способность даже на расстоянии чувствовать все, что касалось Джулии. Она, например, могла извиниться и среди обеда встать из-за стола и пойти в детскую, хотя никто, кроме нее, не слышал ни звука, доносящегося оттуда. Она же слышала даже самый тихий писк девочки. В то лето весь верхний этаж дома привык разговаривать шепотом и постоянно напевать колыбельные, потому что Селия постоянно что-то напевала девочке – то колыбельную, то веселую песенку, – и двигалась вокруг нее, словно пританцовывая под эти несложные припевы и свой мелодичный смех. Благодаря осторожной и несколько нерешительной инициативе Селии наши комнаты одна за другой освобождались от тяжелой старой мебели, принадлежавшей моему отцу и деду. Теперь они были убраны иначе, и мебель там теперь стояла иная – легкая, хрупкая, в современном стиле. Я, впрочем, от этого только выигрывала, потому что тут же забирала отвергнутые тяжелые шкафы и столы и расставляла их у себя, в комнатах западного крыла, которые, без ущерба для остального дома, сиявшего новой легкой обстановкой, были теперь полностью, даже с избытком, меблированы.
Селия также очень радовала мою мать тем, что любила всякие чисто дамские занятия. Они, например, в четыре руки прилежно трудились, точно две наемных работницы, над новым алтарным покровом для нашей церкви: сперва придумали рисунок, затем перенесли его на ткань, а затем принялись за вышивку. Я тоже порой делала пару стежков – по вечерам и в таких местах, где мои ошибки были бы не особенно заметны; но мама и Селия каждый день расстилали перед собой эту груду материи и, склонив голову, трудились над прихотливым рисунком каймы.
Если они не были заняты вышиванием, то читали друг другу вслух, словно жить не могли без звука собственного голоса, или приказывали подать карету, чтобы «малышка подышала свежим воздухом», или же отправлялись с визитами к соседям, или срезали в саду цветы, или разучивали новые песни, или находили себе еще какое-то занятие из числа тех старых приятных способов времяпрепровождения, которые и должны лежать в основе жизни истинной леди. Мне, собственно, не на что было жаловаться. Они были счастливы, крутясь в своем маленьком колесе бессмысленных обязанностей, а любовь Селии к рукоделию, к домашним делам и к свекрови давала мне возможность избегать бесконечных утомительно-монотонных часов в маминой гостиной.
Девическая робость Селии и ее готовность находиться на втором, нет, пожалуй, даже на четвертом месте в доме способствовали тому, что с моей матерью у нее никогда не возникало никаких разногласий. Она еще во Франции поняла, что ее желания и стремления всегда будут второстепенны, что командовать в доме всегда будем мы с Гарри, да она, похоже, ничего другого и не ожидала. Как далека была Селия от той позиции, какую обычно занимает уверенная в себе молодая женщина, впервые став хозяйкой в доме своего мужа; в нашем доме она вела себя скорее как воспитанная гостья или бедная родственница, которую здесь приютили, потребовав взамен предельную вежливость и полное невмешательство. Селия действительно никогда не вмешивалась в мои дела и не покушалась ни на одну сферу моего влияния – ни на ключи от погреба и кладовых, ни на отчет об их содержимом, ни на кухонные дела, ни на выплату жалованья слугам. Она также не совала нос в дела моей матери, которая всегда сама отбирала и наставляла домашних слуг, принимала решения по уборке дома и уходу за ним и составляла ежедневное меню. Она прошла суровую школу, наша Селия, и никогда в жизни не забывала, с каким недружелюбным пренебрежением к ней относились в Хейверинг-холле, так что и от своего нового дома она тоже ничего хорошего не ожидала.
А потому была приятно удивлена отношением к ней свекрови. Моя мать была готова защищать свои права от любого, кто попытается вмешаться в ее дела, но оказалось, что Селия ни о чем ее не просит, ничего не берет без спросу и ничего не ожидает. Максимум того, что она себе позволяла, – это шепотом высказать какое-нибудь осторожное предложение, связанное с тем, что Гарри от этого будет удобней и комфортней, и в таких случаях она тут же обретала в лице нашей матери надежного союзника. Мама обожала Гарри и всегда приветствовала любое начинание, идущее ему во благо.
Наш дворецкий Страйд, будучи человеком весьма опытным, отлично знавшим повадки своих хозяев и способным сразу отличить человека благородного происхождения, почтительно склонял перед Селией голову и с удовольствием давал ей советы. И прочие слуги, следуя примеру Страйда, выказывали ей истинное уважение. Ее никогда никто не боялся. Но все ее любили. Готовность принять любые правила, любой вариант поведения, который Гарри, маме или мне казался наиболее подходящим, делала жизнь всех в нашем доме проще и легче благодаря одному лишь солнечному присутствию Селии в доме.
Я тоже была вполне довольна. По утрам я обычно выезжала верхом, чтобы осмотреть поля, проверить ограды или подняться на верхние пастбища. Днем я занималась счетами, писала деловые письма и принимала просителей, терпеливо ждавших меня в прихожей у бокового входа. Ближе к вечеру, прежде чем одеваться к обеду, мы с Гарри прогуливались в саду среди разросшихся кустов роз, а иной раз доходили даже до берега Фенни, беседуя о делах или сплетничая. За обедом я сидела напротив Селии и по правую руку Гарри, точно принцесса, и с удовольствием поглощала те чудесные яства, которые появились в Широком Доле вместе с новым поваром.
После обеда Селия охотно соглашалась сыграть нам на фортепиано или спеть, Гарри иногда читал нам вслух или же вполголоса беседовал со мной у окна, пока Селия с мамой играли в четыре руки или, вытащив свое вышивание, принимались за работу.
И все то чудесное теплое лето мы пребывали на вершине домашнего счастья – счастья без конфликтов и без грехов. Любому, кто видел нас – например, молодому доктору МакЭндрю с его спокойным взглядом светлых глаз, – могло бы показаться, что мы отыскали некий секрет взаимной любви, благодаря которому в нашей семье навсегда сохранятся замечательные легкие отношения. Даже мои тайные желания в то золотое лето несколько поутихли. Мне было вполне достаточно ласковых улыбок Джона МакЭндрю, неизменно уважительного тона, каким он говорил со мной, и того приятного возбуждения, которое вызывали наши с ним прогулки по саду, окутанному вечерними сумерками. Я, разумеется, не была влюблена в него. Но мне нравилось, когда он своими шутками заставляет меня смеяться; мне были приятны его внимательные долгие взгляды; и я с удовольствием замечала, как хорошо он держится, как красиво сидит редингот на его широкоплечей стройной фигуре. Все это вместе соединялось в некое ощущение, каждый раз вызывавшее мою улыбку, когда он верхом подъезжал к нашему дому, чтобы вместе с нами по-обедать, или, прощаясь, легко сжимал мои пальцы в своей руке и нежно прикасался к ним губами. Я чувствовала, что это составляющие некоего ритуала, связанного с ухаживанием и слишком приятного, чтобы его торопить.
Разумеется, вскоре этому должен был прийти конец. Если доктор вознамерился бы пойти дальше и действительно предложить мне руку и сердце, мне пришлось бы самым серьезным образом ему отказать, и тогда наши невинные и приятные отношения сами собой завершились бы. Но пока длилось это ни к чему не обязывающее ухаживание, пока он приезжал к нам почти каждый день, привозя мне то обещанную книгу, то букет цветов, или же предлагал мне покататься верхом на его любимом Сиферне, я обнаружила, что каждое утро просыпаюсь с улыбкой, вспоминая какую-нибудь его фразу или просто его лицо. И день мой начинался на этой счастливой волне.
За мной никогда еще не ухаживал представитель высшего общества, и я совершенно не была знакома с тривиальными радостями подобной процедуры. Джон МакЭндрю старался незаметно коснуться моих пальцев, когда я передавала ему чашку с чаем, и всегда умел отыскать глазами мои глаза даже среди густой толпы. И мне было приятно знать, что стоит мне войти в зал – например, во время бала, устроенного в Чичестере, – и он сразу же меня заметит и станет пробираться мне навстречу. А если он уже пригласил кого-то танцевать, я улыбалась, втайне прекрасно зная, что он, где бы я ни оказалась, у него ли перед глазами или же за спиной, всегда остро ощущает мое присутствие. И, разумеется, когда подавали чай, Джон тут же оказывался возле меня с тарелкой, полной моих любимых лакомств, и в такие минуты глаза всех присутствующих смотрели только на нас.
Я была настолько очарована его неторопливыми ухаживаниями, этими незаметными шажками, неуклонно приближавшими его ко мне – пусть даже на десятые доли дюйма! – что совершенно расслабилась. Я даже почти перестала следить за Селией и Гарри. Регулярно получая некое новое для меня удовольствие, я попросту позабыла о том, что совсем недавно испытывала мучительное желание обладать Гарри. Я испытывала полную уверенность в том, что именно я являюсь хозяйкой поместья – с этим ныне соглашались абсолютно все, – и более не испытывала потребности управлять номинальным хозяином Широкого Дола. Гарри вполне мог оставаться моим партнером по общему делу. Но раз уж теперь я чувствовала себя на этой земле в полной безопасности, то в качестве любовника он мне больше нужен не был.

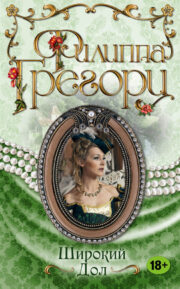
"Широкий Дол" отзывы
Отзывы читателей о книге "Широкий Дол". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Широкий Дол" друзьям в соцсетях.