Я всегда считала этот чердак своим убежищем и теперь тоже не хотела привлекать к нему внимания в свете того, с какой целью я намеревалась его использовать. Я сама убрала и шорный инструмент, и недоделанные седла, над которыми трудилась в свободное время, и теперь стойка для седел стояла посреди помещения, точно приготовившаяся к прыжку лошадь. Рабочие куртки отца, его сапоги, записные книжки с расчетами и планами по разведению скота и сделанные им рисунки седел я бережно сложила в сундук. На виду остались лишь отцовский охотничий нож и длинный кнут.
Затем я позвала из деревни плотника и велела ему вделать в стену два прочных крюка примерно на высоте мужского плеча и еще два почти на уровне пола. Он разворчался:
– Надеюсь, я все сделал как надо, вот только не знаю, на кой эти крюки здесь нужны? Вот и не могу сказать, мисс Беатрис, будут ли они достаточно хорошо вам служить.
– Все просто отлично, – утешила я его, осмотрев крюки, и заплатила ему вдвойне – за беспокойство и за молчание. Для него это была неплохая сделка, и он прекрасно понимал: стоит ему распустить язык, и я сразу же об этом узнаю, но тогда ему уж точно нигде в Сассексе работы не получить. Когда плотник ушел, я привязала к крюкам крепкие кожаные ремни. Помещение было просто идеальным. У камина уже стояла старая широкая козетка, и никто не заметил, что я взяла из своей комнаты парочку подсвечников. На полу вместо ковра я расстелила несколько овечьих шкур и поняла, что все готово.
Да, все было готово, но я никак не могла начать. Это вряд ли было проявлением моей сдержанности или нерешительности, но я не чувствовала в себе необходимой уверенности – а точнее, мании, – чтобы осуществить задуманное. Ведь теперь мне нужно было потакать неким весьма специфическим вкусам Гарри, которые очень отличались от моих собственных, куда более простых и естественных. Мне нужен был некий толчок, который подстегнул бы меня, заставил бы действовать. И даже то, что Селия стала слишком поздно спускаться к завтраку и не успевала налить мне кофе, и даже то, что под глазами у нее постоянно были темные круги, а на устах счастливая, как у младенца, улыбка, на меня не действовало. Я по-прежнему никаких шагов не предпринимала. Прошла уже неделя, как я была готова, но в то же время настоящей готовности в себе не чувствовала. И вот как-то за ужином Гарри сказал мне:
– Могу я поговорить с тобой, Беатрис? Ты посидишь со мной, пока я буду пить порто?
– Конечно, – спокойно ответила я и, дождавшись, когда Селия и мама выйдут из комнаты, уселась рядом с ним во главе стола. Дворецкий принес мне бокал наливки, поставил перед Гарри графин с порто и ушел.
Дом затих. Я думала о том, помнит ли Гарри другой, почти такой же вечер, когда мы с ним сидели и молчали, а вокруг мирно поскрипывал старый дом, и языки пламени вспыхивали и затухали в камине, и через несколько мнут мы буквально растворились друг в друге прямо здесь, на жестком деревянном полу… Но, заметив совершенно мальчишескую улыбку Гарри и ясный счастливый свет в его глазах, я поняла: ничего этого он не помнит, ни о чем таком больше не думает и любовью занимается теперь с законной женой в кровати сквайра Широкого Дола, а наши с ним тайные страстные свидания остались в далеком прошлом.
– Я должен рассказать тебе о том, чему сам я безумно рад, – сказал Гарри. – Впрочем, вряд ли для тебя это будет таким уж сюрпризом. Как, собственно, и для всех в нашем доме.
Я вертела в пальцах изящную ножку бокала, и голова моя была совершенно пуста.
– Доктор МакЭндрю обратился ко мне как к главе дома: он просит твоей руки, – несколько напыщенно сообщил мне Гарри, и я невольно вскинула голову, а в моих зеленых глазах полыхнуло пламя.
– И что же ты ему ответил? – Мой вопрос прозвучал резко, как выстрел, и Гарри от удивления даже стал немного заикаться.
– Ну… я, естественно, сказал «да». Понимаешь, Беатрис, я подумал… Собственно, мы все так думаем, и я был уверен, что…
Я вскочила на ноги, и тяжелое старое кресло, отлетев, оцарапало полированный пол.
– Ты дал согласие, не посоветовавшись со мной? – спросила я ледяным тоном, но мои зеленые глаза горели огнем.
– Беатрис, – мягко начал Гарри, – но ведь мы все видели, как он тебе нравится. Конечно, его профессия несколько необычна, зато он из прекрасной семьи, а его состояние… просто поражает воображение. Конечно же, я разрешил ему поговорить с тобой. Да и с чего бы я стал запрещать ему это?
– Но ему же негде жить! – взорвалась я, с трудом удерживаясь, чтобы не разрыдаться. – У него и дома-то нет! Могу я спросить, где, собственно, он собирается жить со мной?
Гарри ободряюще улыбнулся.
– Беатрис, ты вряд ли способна себе представить, насколько Джон МакЭндрю в действительности богат. Он планирует вернуться домой, в Эдинбург, где, по-моему, вполне сможет купить для тебя даже дворец Холируд[23], если у тебя вдруг возникнет такое желание. Денег на это у него наверняка хватит.
Разумом, который от гнева стал острым, как край льдины, я мгновенно ухватила самую суть, хоть и была взбешена.
– Значит, меня собираются выдать замуж, упаковать и отослать в Эдинбург! – выкрикнула я. – А как же Широкий Дол?
Гарри, явно не ожидавший от меня столь яростной вспышки гнева, примирительным тоном сказал:
– А Широкий Дол прекрасно обойдется и без тебя Беатрис, хотя ты действительно самая лучшая хозяйка поместья, какую только можно пожелать. Господь свидетель, многие сквайры тебе и в подметки не годятся. Но это не должно стоять у тебя на пути. Когда твоя жизнь и твое женское счастье позовут тебя в далекие края, например в Шотландию, ты ни в коем случае не должна оглядываться на Широкий Дол.
Если бы во мне не бушевала такая бешеная, слепящая ярость, из-за которой мне хотелось визжать, рыдать и кататься по земле, я бы, наверное, расхохоталась ему в лицо. Мне была смешна сама мысль о том, что я могу провести свою жизнь в одном из богатых и претенциозных особняков Эдинбурга только потому, что любовь к светловолосому незнакомцу заставила меня покинуть Широкий Дол. Да, подобная идея была бы смешна, когда бы… не вызывала у меня сильнейшего, прямо-таки панического ужаса.
– Кто еще знает об этой затее со сватовством? – свирепо спросила я. – Мама?
– Никто, кроме меня, – торопливо ответил Гарри. – Я решил, что прежде всего мне, конечно же, надо поговорить с тобой. Хотя, возможно, я вскользь упоминал об этом Селии. – Его губы приоткрылись в идиотской полуулыбке, и я поняла: моя возможная ссылка в Шотландию явилась темой милой супружеской болтовни в постели. – Но ни мне, ни Селии и в голову не могло прийти, Беатрис, что предложение доктора вызовет у тебя какие-то иные чувства, кроме самой искренней радости.
Его голос – спокойный, ласковый, обволакивающий, как шоколад, точно такой, каким говорят обладающие властью мужчины, которые берут женщин в жены, спят с ними и вообще пользуются ими, как им заблагорассудится, столько веков подряд, не давая им того единственного, чего женщины так давно ждут: земли, – окончательно лишил меня остатков самообладания.
– Идем со мной, – велела я Гарри и, схватив с обеденного стола подсвечник, быстро пошла по коридору. Гарри что-то удивленно воскликнул, озираясь в поисках спасения, но возможности сбежать не было, и ему пришлось последовать за мной. Проходя через холл, я заметила, что дверь в гостиную приоткрыта, а мама и Селия, тихо переговариваясь, усердно вышивают алтарный покров. Вот и пусть вышивают! – подумала я и решительно свернула к узкой и крутой лестнице, ведущей наверх. Гарри шел сзади, смущенный, но покорный. Я поднялась на второй этаж, затем на третий и стала подниматься на чердак. На лестнице было совершенно темно, и лишь подсвечник у меня в руке отбрасывал на ступени неровный мерцающий свет.
Мы остановились перед запертой дверью бывшей кладовой. Я велела Гарри подождать, вынула из кармана ключ, отперла замок, а его оставила стоять за дверью в полной темноте. Затем я поспешно сняла свое нарядное платье и переоделась в старую зеленую амазонку, которую носила в те времена, когда Гарри еще только вернулся домой из школы. А потом жарким полднем застал меня врасплох – обнаженную, в объятиях Ральфа, на полу старого мельничного амбара. Длинную череду пуговичек на плотно облегающем фигуру жакете я оставила незастегнутыми, и под жакетом от горла до пупка виднелось мое прекрасное тело. В руке я сжимала старый папин охотничий кнут – длинную плеть из черной кожи весьма хитроумного плетения, способную причинить сильную боль, с кнутовищем из черного эбенового дерева с серебряной инкрустацией.
– Входи, – сказала я таким тоном, что ослушаться Гарри не посмел.
Он толчком отворил дверь и застыл на пороге. У него просто дыхание перехватило, когда в мерцающем свете свечей он увидел меня, высокую, разгневанную, полуобнаженную. Он даже негромко охнул, заметив и мой сознательно незастегнутый жакет, и седельную стойку, и крючья на стенах, и широкий манящий диван с мягкими подушками, и пушистые овечьи шкуры на полу, заменяющие ковер.
– Иди сюда! – велела я, и Гарри вздрогнул, словно я кольнула его ножом. Потом покорно, как в трансе, он последовал за мной ко вбитым в стену крюкам и, стоило мне слегка щелкнуть кнутом, широко расставил ноги, чтобы я могла привязать его за обе щиколотки крепкими кожаными ремнями. Казалось, он начисто утратил дар речи. Затем он так же послушно раскинул руки в стороны, а я ремнями крепко привязала его за запястья – по-моему, причинив ему довольно сильную боль – к крючьям в стене.
Одним сильным рывком я до пояса разорвала на нем рубашку из тонкого полотна, обнажив его грудь, и он вздрогнул. По-прежнему держа в одной руке плеть, я свободной рукой стала бить его по щекам: по левой – по правой, по левой – по правой, а потом, точно разъяренная кошка с конюшни, острыми ногтями расцарапала ему грудь от горла до ремня, поддерживавшего штаны. Гарри обвис на ремнях и застонал. Похоже, ему действительно было больно. Вот и прекрасно! – с садистской радостью подумала я.
Старым отцовским охотничьим ножом я провела по боковым швам роскошных расшитых панталон Гарри, и они тут же превратились в лохмотья, самым жалким образом свисавшие с талии. Острым лезвием я случайно задела ему кожу на бедре и, заметив капли крови, опустилась на колени и с жадностью, точно вампир, слизнула кровь. Если бы вместе с кровью я могла до последней капли выпустить и его мужскую гордость, его мужское тщеславие, его мужскую глупость и власть, я бы это сделала! Он снова застонал и рванулся, словно желая освободиться от пут. Я немного отступила назад и одним умелым щелчком расправила кнут, так что плеть, извиваясь, поползла по полу, точно готовая укусить змея. Затем я подняла кнут и сказала голосом, звенящим от ненависти:
– Пойми, Гарри, и постарайся раз и навсегда это усвоить: я никогда не покину Широкий Дол и никогда в жизни с тобой не расстанусь. Мы всегда будем вместе. Пока ты будешь сквайром Широкого Дола, я буду рядом с тобой – до тех пор, пока мы оба ходим по этой земле. Похоже, ты уже успел позабыть об этой моей клятве, а потому я намерена тебя наказать, и теперь ты уже никогда этого не забудешь. Ты вечно будешь стремиться вновь и вновь испытать то, что испытаешь сегодня; ты будешь страстно мечтать об этом и не сможешь ни прогнать эти мечты, ни уничтожить свое пагубное стремление.
Гарри вдохнул, и мне показалось, что он хочет что-то сказать – то ли попросить не наказывать его столь жестоко, то ли, наоборот, молить меня поскорее приступить к наказанию. Я не понимала, чего он на самом деле хочет, да и не хотела понимать. И, взмахнув рукой, щелкнула кнутом.
Управляться с кнутом учил меня на конюшенном дворе отец; мне тогда было всего десять лет. При определенном умении с помощью кнута можно сорвать ягоду земляники, ничуть ее не попортив, а можно одним ударом рассечь бычью шкуру. Я довольно сильно стеганула Гарри кнутом по нежной коже под мышками и на боках, и его дрожащее тело тут же покрылось потом; потом я принялась, дразня, ласкать его, слегка касаясь кнутом горла, груди и того, что свисало у него между широко расставленными ногами.
– Ступай к верстаку, – сказала я, но, стоило мне освободить его запястья, он бесформенной грудой рухнул к моим ногам. Я, не колеблясь, совершенно равнодушно пнула его под ребра носком сапога и повторила: – Ступай к верстаку и ложись.
Он упал на верстак ничком – наверное, именно так он падал в школе на узкую жесткую кровать – и прижался щекой к гладким, отполированным временем доскам. Я привязала его к ножкам верстака – за оба запястья и обе щиколотки – и слегка прошлась кнутом по его спине, ягодицам и бедрам, так, чтобы каждое прикосновение сперва воспринималось как легчайший укус, но если это повторять, то вскоре становилось больно, а на коже вздувались розовые, жгучие рубцы.

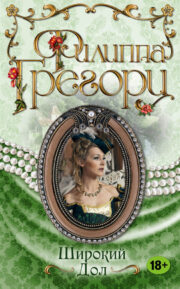
"Широкий Дол" отзывы
Отзывы читателей о книге "Широкий Дол". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Широкий Дол" друзьям в соцсетях.