Дверь была не заперта; занавески на окнах не задернуты. Любой проехавший мимо окна мог заглянуть внутрь и увидеть нас; или же слуга мог войти, принеся свечи; но я ни о чем не думала. Не могла думать. В моей пустой голове звучало только некое странное подобие дрожащего смеха – так яростно действовал Джон МакЭндрю, – да из души, прямо из горла рвалось искреннее и нежное признание: «Не слушай моих отказов! Мало ли что я тебе говорила раньше! И давай больше ничего не будем объяснять друг другу. Ты только люби меня, люби, люби!»
И тут каким-то краешком рассудка я поняла, что лежу на полу, и мои руки обнимают Джона за шею, и глаза мои закрыты, и губы мои улыбаются, и я сама, да, сама, шепчу его имя и повторяю: «Люби меня, люби». И он меня послушался.
А потом, когда я громко вскрикнула, испытав высшее наслаждение – слишком громко, чтобы это было безопасно, – он лишь выдохнул с огромным облегчением и радостью: «О, да, да, да!»
А потом мы долго лежали совершенно неподвижно, крепко обнявшись.
Я вздрогнула и очнулась от забытья, когда в камине с треском обвалились дрова, и тут же попыталась вскочить, судорожно, с виновато-испуганным видом оправляя платье. Джон помог мне подняться, одернул мои измятые юбки и принялся разглаживать их с такой элегантной любезностью, словно мы были на балу; при этом на губах его играла легкая тайная усмешка в знак того, что он понимает, насколько все эти любезности в данный момент неуместны. Затем мы снова уселись – он в кресло сквайра, а я к нему на колени, – и он прижал меня к себе, а я прильнула лицом к его щеке, улыбаясь от переполнявшей меня тайной радости, и закрыла глаза.
Когда я, наконец, снова их открыла и посмотрела на него, мы улыбнулись друг другу, как заговорщики, и он сказал каким-то странным голосом, словно охрипнув от волнения:
– Ах ты, маленькая развратница! Теперь ты просто обязана выйти за меня замуж!
– И я так думаю, – согласилась я.
Мы сидели так, пока солнце совсем не скрылось за западными холмами и над горизонтом не загорелась первая звезда. Огонь в камине почти совсем догорел, и в золе светилась лишь горстка красных углей, но ни один из нас не встал и не подбросил туда хотя бы одно полено. Мы целовались – то нежно, едва касаясь друг друга губами, то по-настоящему, страстно и возбуждающе. Говорили мы мало, и главным образом о пустяках. О том, как прошла недавняя охота, о том, как плох Гарри в качестве хозяина поместья. Джон больше не спрашивал, почему я плакала. Мы не строили никаких планов. Мы просто болтали. Затем я заметила, что у мамы в гостиной зажгли свечи и в окне появился силуэт горничной, опускавшей шторы.
– Я думала, это будет больно, – лениво заметила я, вспомнив, что, вообще-то, все считают меня девственницей.
– После того, как ты столько лет ездила верхом в мужском седле? – усмехнулся Джон. – Я удивлен, что ты вообще хоть что-то заметила!
Я самым неприличным образом захихикала, но я чувствовала себя с ним так легко и просто, что мне совершенно не хотелось притворяться, и я решила быть собой: улыбающейся и довольной, как сытая кошка.
– Мне надо идти, – сказала я, но не пошевелилась. Я еще и такой же ленивой, как кошка, себя чувствовала, и мне, как кошке, было так хорошо сидеть у него на коленях, когда он меня гладит. – Они и так, наверное, не понимают, куда я подевалась.
– Хочешь, я пойду с тобой? И мы прямо сейчас им объявим? – спросил Джон. Он поставил меня на ноги и снова принялся заботливо оглаживать на мне платье, особенно сзади, где шелк сильно замялся.
– Не сегодня, – сказала я. – Пусть сегодняшний день будет только наш – твой и мой. Приходи лучше завтра к обеду. Тогда мы им и скажем.
Он поклонился с притворным послушанием, нежно поцеловал меня на прощанье и вышел на конюшенный двор через боковую дверь в западном крыле. Мама, Гарри и Селия вроде бы так и не заметили визита Джона, но я прекрасно знала, что все наши слуги – и в доме, и на конюшне – все отлично поняли и точно знают, сколько времени он пробыл со мной в кабинете. Именно поэтому никто ко мне так и не зашел и никаких свечей слуга мне в кабинет не принес, даже когда дневной свет почти совсем померк. Все они, словно сговорившись, не мешали нам с Джоном «миловаться», как деревенской парочке, при свете горящего камина. Так что, как и всегда, простые люди в Широком Доле знали гораздо больше, чем Гарри или мама были способны даже себе представить.
На следующий день, когда Джон заехал за мной перед обедом, чтобы повезти меня на небольшую прогулку, Гарри, мама и Селия почти не обратили на это внимания, зато все слуги так и сияли, выглядывая из окна или «невзначай» пробегая через холл. Страйд торжественно сообщил мне, что доктор МакЭндрю ждет на подъездной аллее в своем экипаже, и с изысканной любезностью подал мне руку и сам подвел меня к коляске Джона. У меня было такое ощущение, словно меня ведут к алтарю. И я, надо сказать, ничуть против этого не возражала.
– Надеюсь, сегодня ты ко мне со своими грязными штучками приставать не будешь? – шутливо поддела я Джона, раскрывая желтый зонтик от солнца; на мне также был желтый капор и желтое шерстяное платье.
– Нет, сегодня я вполне удовлетворюсь созерцанием моря с вершины одного из ваших холмов, – весело ответил он. – Как ты думаешь, можно на коляске проехать по верховой тропе?
– Там довольно узко, – сказала я, на глаз прикидывая ширину повозки и размеры крупных, лоснящихся гнедых. – Но если точно придерживаться тропы, то проехать, наверное, можно.
Он усмехнулся.
– Эх, жаль, возница-то я негодный! Новичок не обученный. Так что не уверен, сумею ли я удержать коней точно на тропе. Но ведь ты всегда можешь перехватить у меня вожжи, не так ли?
Я расхохоталась. Одна из тех вещей, которые мне очень нравились в Джоне МакЭндрю, – это его невосприимчивость к моим язвительным намекам. У него была весьма упругая и прочная нервная система, так что на мои выпады он реагировал на редкость спокойно и отвечал глазом не моргнув. Казалось, его нисколько не задевают даже самые злые шутки; их он воспринимал как некую часть нашей общей игры; и всегда с удовольствием признавался в собственной некомпетентности или неумении, не краснея и не пытаясь блефовать; и всегда в итоге заставлял меня рассмеяться и сказать, что я пошутила.
– Прошу прощения, – с веселым кокетством возразила я, – но, насколько мне известно, вы способны так ловко править своей гнедой парой, что запросто можете и по лестнице на коляске подняться, и при этом не станете стегать лошадей кнутом и даже лак на перилах не поцарапаете.
– Это я действительно могу, – скромно признался Джон, – вот только делать этого никогда не стану. Я бы никогда не стал ставить тебя в неловкое положение, Беатрис. Я знаю, как ты переживаешь, если тебя пытаются в чем-то обойти или просто унизить.
Я невольно хмыкнула и уставилась прямо в его невозмутимые голубые глаза. Когда он меня ласково поддразнивал, как сейчас, глаза его сияли так, словно он меня целует. Остановив лошадей перед изгородью там, где через нее был каменный перелаз, за которым начиналась тропа, ведущая на вершину холма, Джон спрыгнул с козел и набросил вожжи на столбик у перелаза.
– Никуда они не денутся, – сказал он, словно его роскошные кони вовсе и не стоили несколько сотен гиней, и подал мне руку, помогая вылезти из коляски и перебраться через изгородь. Он поддерживал меня и на тропе, пока мы поднимались на вершину холма, но и когда мы туда добрались, он по-прежнему не отпускал моей руки. Вряд ли я сама сумела бы выбрать более подходящее место для прогулки с любимым человеком. Но я, безусловно, чувствовала бы себя гораздо более счастливой, если бы мы не оказались всего в нескольких ярдах от той укромной ложбинки, заросшей папоротником, где мы с Ральфом так любили лежать обнаженными, и если бы шагах в пятнадцати от этой ложбинки я несколько позже не хлестала Гарри по лицу, а потом не скакала на нем верхом, доведя его этим до полного экстаза.
– Беатрис! – окликнул меня Джон МакЭндрю, прервав мои воспоминания, и я повернулась к нему лицом. – Беатрис… – повторил он.
Да, Ральф сказал чистую правду: есть те, кто любит, и те, кого любят. Джон МакЭндрю был великим дарителем любви, и вся его сообразительность, вся его мудрость не способны были помешать ему любить меня, любить, любить, любить меня одну, сколь бы высока ни была та цена, которую он был вынужден платить за эту любовь. Мне же достаточно было всего лишь сказать ему «да».
– Да, – сказала я.
– Я некоторое время назад написал отцу и рассказал ему о своих чувствах и намерениях, и он очень хорошо это воспринял; я бы даже сказал, с большой щедростью. Он выделил мою долю в «Линиях МакЭндрю» и разрешил мне делать с этим капиталом все, что мне будет угодно. – Джон улыбнулся и пояснил: – Это огромная сумма, Беатрис. Целое состояние. Там хватит, чтобы купить сразу несколько Широких Долов и еще много останется.
– Гарри унаследовал наше поместье по праву майората и продать его не сможет, – сказала я, чувствуя, как во мне внезапно проснулся острый интерес.
– Да, все так и есть, и это единственное, что не дает тебе покоя, верно? – печально спросил Джон. – Но я всего лишь хотел сказать, что моего состояния более чем достаточно для покупки или аренды любого из здешних поместий, какое ты только пожелаешь. Я уже объявил отцу, что никогда не вернусь в Шотландию. Я сказал, что женюсь на англичанке. На гордой и упрямой англичанке, обладающей на редкость трудным характером. И буду любить ее, если она мне это позволит, до конца дней своих.
Я с улыбкой повернулась к нему; глаза мои сияли от нежности и любви. А я и не ожидала, что после Ральфа сумею снова кого-то полюбить. Впрочем, раньше я думала, что и моя страсть к Гарри будет длиться вечно, а теперь не могла толком вспомнить, какого цвета глаза у моих бывших возлюбленных. Теперь я ничего больше не видела вокруг, кроме улыбки Джона и его голубых глаз, в которых светилась любовь.
– И я буду жить здесь? – спросила я, как бы желая подтвердить выпавшую мне удачу.
– И ты будешь жить здесь, – пообещал он. – А в самом крайнем случае я выкуплю для тебя свинарники Широкого Дола, раз уж мы так хотим остаться на этой священной земле. Это тебя устроит? – Он обнял меня и прижал к себе, и я почувствовала, что он весь горит от нетерпения и любви, и мощная волна полузабытой чувственности охватила мою душу и тело. Колени подгибались подо мной, ибо меня вновь обнимал страстный молодой мужчина. Мы с трудом, задыхаясь, разомкнули объятия, и Джон неожиданно резко и жестко спросил:
– Значит ли это, что отныне мы с тобой официально помолвлены? Что ты согласна выйти за меня замуж? Что после свадьбы мы будем жить здесь? Что сегодня за обедом мы всем об этом объявим?
– Да, я согласна выйти за тебя замуж, – сказала я торжественно, как настоящая невеста, думая о будущем ребенке, тяжелым камнем лежавшем в моем чреве. А еще я думала о том, что благодаря Джону по телу моему вновь разливается жар желания. И особенно приятно мне было сознавать, что с помощью денег семейства МакЭндрю я смогу так много сделать для Широкого Дола.
– Я выйду за тебя, Джон, – снова сказала я, и мы, крепко держась за руки, стали спускаться с холма. Лошади по-прежнему смирно стояли возле изгороди, пощипывая темные осенние листочки боярышника; где-то в лесу печально пел черный дрозд.
Джону пришлось спускать коляску задом по узкой тропе, пока мы не выбрались на дорогу, ведущую к воротам усадьбы. Да и потом он сильно придерживал коней, пока мы не свернули на относительно ровную подъездную аллею и не покатили к дому.
Листья, облетая с буков, сыпались на нас, точно рисовые зерна на свадьбе. Мы ехали очень медленно – Джон явно не спешил возвращаться в дом. Листья медных буков этой осенью приобрели какой-то неожиданный темно-пурпурный оттенок, а на других деревьях листва, еще недавно совсем зеленая, стала желтой и оранжевой, расцвеченной самыми невероятными красками, и ярко светилась даже в сумеречном вечернем свете. Мои, пожалуй, самые любимые деревья, березы, стояли желтые, как лютики, сверкая золотом листьев и серебристо-белыми стволами. На зеленых изгородях пылали красные ягоды спелого шиповника и блестели черные ягоды бузины, сменившие пышные весенние грозди кремовых цветов.
– Места здесь и впрямь удивительно красивые, – сказал Джон, следя за моим влюбленным взглядом, которым я невольно окидывала каждое знакомое, но всегда выглядевшее по-разному дерево, каждый клочок земли, каждую зеленую изгородь. – Я понимаю, почему ты так любишь свой Широкий Дол.
– Ты тоже его полюбишь, – уверенно сказала я. – Когда ты будешь жить здесь, когда проведешь здесь много лет, а может, и всю свою жизнь, ты полюбишь эту землю так же нежно, как люблю ее я. Ну, может, почти как я.

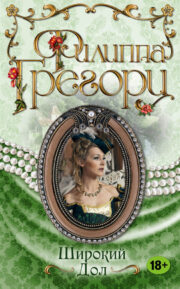
"Широкий Дол" отзывы
Отзывы читателей о книге "Широкий Дол". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Широкий Дол" друзьям в соцсетях.