Но на самом деле я отнюдь не была спокойна; мало того, сообщение матери вызвало у меня нервную дрожь. Максимум того, что в данный момент было известно Гарри о Широком Доле, можно было почерпнуть в любом дешевом издании народных сказок или преданий. И все же, как только он прибудет домой – по требованию мамы, а вовсе не потому, что вдруг понадобился отцу, – он может постепенно превратиться в такого сына, каким хотел его видеть папа, какого папа искал во мне. Он может на самом деле стать наследником имения!
Джентльмены так и не вышли в гостиную к чаю, и мама очень рано отослала меня спать. После того как горничная заплела мои густые каштановые волосы в толстую косу, свисавшую до пояса, я отослала ее, вылезла из постели и устроилась на подоконнике. Моя спальня находилась на втором этаже, и окна ее смотрели на восток, так что мне был виден весь наш розарий, широким серпом огибавший фасад дома и его восточный торец; чуть дальше, за розарием, виднелись персиковые деревья, ягодные кусты и огородные грядки. Мне не нравились куда более просторные комнаты, расположенные в передней части дома и выходившие на юг; там, кстати, находилась и спальня Гарри. А со своего уютного сиденья на подоконнике мне был виден не только сад, залитый лунным светом, но и лес, подступавший к самым воротам. В холодном ночном воздухе явственно чувствовались знакомые ароматы Широкого Дола. Прежде всего, многообещающий запах травы, зреющей на заливных лугах и влажной от ночной росы. Время от времени до меня доносилось из леса беспокойное щебетанье черного дрозда и резкое тявканье самца лисицы. Внизу слышался рокочущий бас отца – он что-то рассказывал гостю о лошадях. Мне было ясно: этот тихий человек в черном сумел обо всем с папой договориться и Гарри действительно вскоре будет дома.
Какая-то темная тень промелькнула по лужайке, прервав мои размышления. Я узнала этого парнишку: он был помощником нашего егеря и охранял прикормленную дичь от браконьеров. Мы с ним были примерно ровесниками, но он выглядел старше меня, крепкий, как молодой бычок; за ним по пятам всегда следовала крупная собака-ищейка, помесь шотландской овчарки с борзой, специально обученная выслеживать и ловить браконьеров. Парень, видно, заметил свечу в моем окне и через весь сад (где ему совершенно не полагалось находиться) подошел и остановился прямо у меня под окном (что ему тоже совершенно не полагалось делать), непринужденно опершись одной рукой о теплую стену из светлого песчаника. Шелковая шаль, которую я накинула на ночную рубашку, показалась мне вдруг какой-то слишком скользкой и легкой, когда я увидела, каким горячим взглядом он на меня смотрит и улыбается, задрав голову вверх.
Его звали Ральф, и мы с ним были не то чтобы друзьями, но все же знали друг друга. Однажды летом, когда Гарри как-то особенно сильно нездоровилось и я, оставшись без присмотра, могла пользоваться полной свободой и бегать, где захочу, я как раз и обнаружила этого нечесаного и вообще не слишком опрятного мальчишку у нас в розарии. Разумеется, я со всем высокомерием шестилетней малышки приказала ему немедленно убираться вон, а он вместо ответа сунул меня носом прямо в розовый куст. Впрочем, увидев мое потрясенное исцарапанное лицо, он тут же любезно предложил меня оттуда вытащить. Я сделала вид, что принимаю его предложение, ухватилась за протянутую им руку, но, едва оказавшись на ногах, тут же изо всех сил вцепилась в эту руку зубами, а потом удрала – но не в дом, который мог бы послужить мне убежищем, а в лес, через крытый вход на кладбище. Это мое убежище было недоступно для мамы и няни, да они и понятия не имели о тех узких звериных тропах в зарослях, по которым я туда пробиралась, и обычно были вынуждены, стоя у ворот, долго меня звать, пока я не сочту нужным объявиться. Но этот коренастый парнишка ужом пробрался сквозь заросли, следуя за мной по пятам, и вскоре объявился в моем убежище – маленькой ложбинке, скрытой кустами, одичавшими розами и всевозможными сорняками.
На его грязной мордашке сияла улыбка до ушей, похожая на трещину, и я невольно улыбнулась ему в ответ. Это и стало началом нашей дружбы, которая, как это часто бывает в детстве, продолжалась все то лето, а потом вдруг прервалась, причем столь же мгновенно и беспричинно, как и началась. Но тем жарким летом я каждый день удирала в лес от нашей горничной, которой и без того дел хватало, а тут вдруг еще меня препоручили ее заботам, и мы с Ральфом встречались на берегу Фенни. С утра мы обычно ловили рыбу и плескались в речке, а потом отправлялись в долгие походы до самой деревенской дороги, или лазили по деревьям и грабили птичьи гнезда, или просто ловили бабочек.
В то лето я пользовалась небывалой свободой, потому что Гарри болел и за ним днем и ночью в четыре глаза следили мама и няня. Ральф же был свободен всегда – с тех пор, как научился ходить, потому что его мать, неряха Мег, вместе с ним обитавшая среди леса в полуразвалившейся лачуге, никогда не тревожилась из-за того, куда он пошел и что сделал. В общем, он был для меня идеальным товарищем по играм – именно он учил меня различать породы деревьев и запоминать, куда ведут тропинки в лесу, раскинувшемся вокруг нашей усадьбы таким широким полукругом, что за одно утро до его противоположного конца моим маленьким ножкам было просто не дойти.
Мы с Ральфом играли, как играют обычно деревенские дети – мало говорили, но много делали. Однако лето скоро кончилось; Гарри поправился; мама снова начала с бдительностью орлицы следить за белизной моих передничков; и теперь с утра все мое время было вновь отдано урокам. Если в начале осени Ральф все еще ждал, когда я снова приду в лес, то с наступлением холодов, когда листья стали сперва желтыми и красными, а потом облетели, он ждать перестал. Похоже, ему уже поднадоели наши игры, и он стал по пятам ходить за старшим егерем, обучаясь умению охранять дичь и отстреливать обнаглевших хищников. Папа рассказывал, что в деревне о Ральфе отзываются как о весьма умелом и прилежном парнишке. Особенно хорошо ему удавался уход за юными фазанятами. В общем, когда Ральфу исполнилось восемь, он стал на законном основании получать настоящее жалованье – пенни в день в течение всего охотничьего сезона. А к двенадцати годам он уже получал половину жалованья взрослого егеря – и в сезон, и не в сезон – и при этом выполнял работы не меньше взрослых.
Мать Ральфа появилась в наших краях неизвестно откуда; отец его давно бросил семью и исчез, и это означало, что сам Ральф был свободен от верности своим деревенским родственникам. Кстати сказать, именно это и мешало местным браконьерам действовать в нашем лесу безнаказанно. Большим преимуществом для Ральфа, помощника егеря, было также то, что их с матерью хижина стояла прямо посреди леса, на берегу Фенни; они понаставили клеток с самками и фазанятами прямо вокруг своего домишки, и стоило где-нибудь поблизости от клеток с фазанами хрустнуть хоть веточке, как с Ральфа тут же слетал любой, даже самый глубокий сон.
В детстве восемь лет – это все равно что целая жизнь. И теперь я успела почти позабыть то лето, когда мы с этим грязным маленьким постреленком были неразлучны. Но отчего-то я всегда испытывала некоторую неловкость, проезжая мимо Ральфа на своей хорошенькой лошадке в идеально сшитой амазонке и кокетливой шляпке с загнутыми с трех сторон полями. Особенно если ехала одна. Когда он, свесив чуб до земли, кланялся папе и кивал мне, я без должной легкости, испытывая, пожалуй, даже некоторое внутреннее затруднение, говорила ему: «Добрый день». И меня вовсе не привлекала перспектива каких бы то ни было бесед с Ральфом, если я ехала одна. Мне и теперь было немного неприятно, когда он с чрезвычайной самоуверенностью подошел к нашему дому, прислонился к стене и стал смотреть на меня, сидевшую на подоконнике при свете свечи.
– Ты простудишься, – сказал он, и голос у него был совсем уже мужской, низкий. За последние два года он здорово раздался в плечах, и в нем явственно чувствовалась молодая и уверенная сила.
– Возможно, – бросила я в ответ, но с подоконника не слезла, ибо это означало бы, что я до некоторой степени ему подчинилась… а также – что я заметила, как он на меня смотрит.
– Ты что, за браконьерами здесь решил поохотиться? – задала я совершенно ненужный вопрос.
– Ну, с ружьем и собакой я бы вряд ли отправился за девушками ухаживать, – сказал он, тягуче растягивая слова на манер жителей холмов. – Хорошенькую же девчонку я заполучил бы с помощью ружья и капкана, вам не кажется, мисс Беатрис?
– Ты еще мал, чтобы о девушках думать, – высокомерно заявила я. – Ты же не старше меня.
– А я вот все думаю – и о девушках, и о том, как за ними ухаживать, – сказал он. – Так приятно думать о теплой ласковой девчонке, когда ждешь один в лесу холодной ночью. Да и не так уж я мал, мисс Беатрис, вполне гожусь, чтобы девушкам нравиться. В одном вы правы: мы с вами ровесники. Но неужели девушка, которой почти пятнадцать, слишком юна, чтобы теплой летней ночью думать о любви и поцелуях?
Его темные глаза неотрывно смотрели прямо на меня и, по-моему, даже светились в лунном свете. Хорошо, думала я, что я сижу так высоко и вокруг стены моего родного дома. И все же мне отчего-то стало немного грустно.
– Да, если она – настоящая леди, – твердо заявила я. – Впрочем, я бы и на месте деревенских девушек как следует подумала, прежде чем с тобой дело иметь.
Ральф только вздохнул в ответ, и деревенская тишь заполнила паузу, возникшую в нашем странном разговоре. Пес, зевнув, вытянулся на гравии у ног своего хозяина. И я, сама себе противореча, вдруг страстно захотела, чтобы Ральф снова посмотрел на меня сияющими и будто обжигающими глазами, а я перестала бы называть себя леди и без конца напоминать ему, что он – никто и ничто. Но он больше на меня не смотрел, а стоял, опустив голову и уставившись в землю. Я судорожно пыталась придумать, что бы такое ему сказать, и чувствовала себя на редкость глупой и неуклюжей; и потом, мне было ужасно жаль, что я отчего-то сразу повела себя с ним так неприязненно и заносчиво. Затем он переступил с ноги на ногу, забросил на плечо ружье, и я, несмотря на густые сумерки, заметила, что он улыбается, а значит, мои сожаления совершенно напрасны.
– Полагаю, любая леди устроена в точности так же, как и деревенская девушка, когда ей холодно, а ты обнимаешь ее на тихом сеновале или в уютной ложбинке среди холмов, – сказал он. – И если мне моих пятнадцати лет для любви вполне достаточно, то, полагаю, и для вас ваших пятнадцати лет тоже. – Он немного помолчал и прибавил: – Госпожа моя, – и эти два слова прозвучали у него, словно любовное признание.
Я была настолько потрясена, что у меня перехватило дыхание, и пока я молчала, как дура, Ральф свистнул своему черному псу, повсюду, как тень, следовавшему за ним, и удалился, даже не попрощавшись. Я видела, как он шел – точно какой-то лорд по своим владениям! Его темный силуэт, отчетливо видимый на фоне розовых кустов и лужайки, вскоре исчез за калиткой и растворился в ночной темноте. Я же продолжала сидеть на подоконнике, прямо-таки похолодев от такой наглости. Затем, охваченная внезапным приступом ярости, вскочила и собралась уже броситься к отцу и сказать, чтобы он велел высечь противного мальчишку кнутом. Путаясь в полах длинного капота, я решительно подошла к двери и вдруг остановилась, осознав, что мне по какой-то непонятной причине совсем не хочется, чтобы Ральфа высекли кнутом или вышвырнули из поместья. Его, безусловно, следовало наказать, но это должен был сделать не мой отец и даже не наш егерь. Я сама найду для него такое наказание, которое способно не хуже кнута стереть с его лица эту оскорбительную усмешку! И я, уже планируя сладкую месть, улеглась в постель, но заснуть не могла. Сердце мое билось так сильно, что я даже удивилась: неужели это оно от гнева так бьется?
Наутро я о Ральфе почти позабыла. И совсем, ну совсем ничего не значило то, что я, желая прокатиться верхом, поехала в сторону его дома. Впрочем, я знала, что Ральф всю ночь будет дежурить в лесу, высматривая браконьеров, и уж до полудня точно домой не вернется – в эту свою ужасную сырую лачугу на берегу Фенни возле заброшенной мельницы. Течение в этом месте было настолько переменчивым, что еще мой дед, отец моего отца, построил для нашего поместья новую мельницу несколько выше по течению. Старая мельница давно уже развалилась, да и домик тогдашнего мельника, стоявший неподалеку от нее, требовал ремонта; казалось, что он постепенно тонет, погружается во влажную, заболоченную землю. Лес уже почти вплотную подступил к дверям этой жалкой хижины с низкой крышей, и я, проезжая мимо, иной раз думала, что чем выше становится Ральф, тем ниже ему приходится нагибаться, чтобы пройти в дверь. В домике было всего две крошечных комнатки.
Мать Ральфа, Мег, была женщиной высокой, ширококостной, но довольно худощавой. С темными вьющимися волосами и несколько диковатым, опасным взглядом – в точности как и у самого Ральфа. «Сущая цыганка», с удовольствием называл ее мой отец.

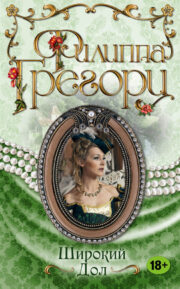
"Широкий Дол" отзывы
Отзывы читателей о книге "Широкий Дол". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Широкий Дол" друзьям в соцсетях.