Селия явно испытала облегчение, услышав, как спокойно и ласково, с какой любовью я говорю со своим мужем. Зато Джон прямо-таки побелел и смотрел на меня совершенно больными глазами, поскольку он-то в моих словах явственно услышал угрозу. Вот и хорошо, думала я, значит, сегодня он вряд ли что-то еще скажет в мой адрес. А уж потом я постараюсь сделать так, чтобы он замолчал навеки.
Я встала из-за стола и сказала:
– Итак, Гарри, у меня в кабинете минут через десять, хорошо?
Гарри кивнул и встал, видя, что я собираюсь уходить. Джон медлил, словно не желая выказывать мне уважение, но я стояла и ждала, не сводя с него глаз, пока он не встал, с такой силой оттолкнув стул, словно был невоспитанным мальчишкой. Я испытала легкое удовлетворение, заставив его подчиниться, – так хозяин спокойно и уверенно заставляет слушаться команд своего непокорного злобного пса. Впрочем, некоторые псы оказываются настолько не поддающимися дрессировке, что в итоге им привязывают на шею камень и бросают в Фенни.
Я прошла к себе в кабинет.
Мне хорошо в Широком Доле повсюду, где бы я ни оказалась, но я испытываю истинное блаженство, когда сижу в отцовском рабочем кресле за большим круглым столом для сбора ренты, зная, что в ящиках этого стола хранятся документы на всех наших арендаторов, а рядом на пюпитре стоит карта нашего поместья. Когда я вижу, что за окном шныряют веселые ласточки, когда я чувствую, что именно здесь, в моем кабинете, и бьется сердце Широкого Дола. Я знаю, стук этого сердца слышен и в глубокой таинственной чаще леса, и на мягкой траве залитого солнцем общинного луга, и на склонах холмов, поросших тимьяном, но именно в кабинете я слышу этот стук наиболее отчетливо – здесь вся жизнь нашего поместья расписана в толстых книгах моим четким почерком, а его будущее изложено в больших таблицах, расстеленных на столе. Именно здесь собираются доходы в виде еженедельной ренты, сюда поступают из Чичестера сообщения о дополнительных продажах зерна, шерсти и мяса и банковские чеки от торговцев. И именно здесь хранятся отчеты о наших тратах: о расходах на инструменты, на покупку новых животных и семян, на приобретение бесконечной домашней утвари – всего того, что Селия считает необходимым, и я никогда ей не отказываю. Наша жизнь в Широком Доле вполне благополучна, и об этом свидетельствуют мои гроссбухи, где черным по белому написано, что все это мы можем себе позволить, что наша земля дает нам достаточное богатство.
И вот теперь это богатство, этот уверенный, устоявшийся товарооборот должен быть направлен в иное русло – в некий фонд, создаваемый для того, чтобы мой сын имел законное право сидеть в том самом кресле сквайра, в котором сейчас сижу я, в той самой комнате, куда я сейчас собрала все нити управления поместьем; чтобы мой Ричард, мой милый малыш, которого я через несколько минут пойду купать, стал здесь хозяином и ему принадлежали бы и эта земля, и власть над нею. И если я хоть чем-то могу этому помочь, я сделаю все, что от меня зависит.
Гарри, постучавшись, вошел в кабинет и поцеловал меня в щеку. С утра это был уже второй его поцелуй, но сейчас он давал мне понять, что тот первый, приветственный, поцелуй за завтраком был на публике – брат целовал сестру. А этот – который, по-моему, отнюдь не был более пылким, – наш личный поцелуй, поцелуй давнишних, хорошо знающих друг друга любовников.
– Садись, – сказала я, и Гарри подтащил к столу стул, а я продолжила деловым тоном: – Я намерена сегодня же написать нашим лондонским юристам по поводу изменения права наследования, и как только мы узнаем, какая сумма для этого потребуется, нам будет легче оценить собственные доходы и возможности. – Гарри одобрительно закивал, а я, помолчав, прибавила: – Но мне кажется, нам пока не следует никому рассказывать об этих планах; мы ведь и сами еще не решили, как нам действовать дальше. Я, во всяком случае, пока что ничего рассказывать Джону не собираюсь, и, по-моему, будет лучше, если и ты ничего Селии не скажешь.
– Да? – удивился Гарри. – А почему?
– Ах, Гарри, – сказала я, – как плохо ты знаешь женщин! Если Селия узнает, что ты собираешься сделать Джулию наследницей, она сразу догадается, что ты считаешь, будто она не способна родить тебе сына. Боюсь, это разобьет ей сердце. Но что еще хуже – она сразу поймет, что это я выдала тебе ее печальную тайну. Она будет чувствовать себя преданной, а я – предательницей. Так что лучше ей ничего не знать о наших планах, пока мы не решим наверняка, что в состоянии выкупить права на наследование, пока эти права на самом деле не будут выкуплены и пока все бумаги не будут подписаны в пользу совместного владения поместьем Ричардом и Джулией. Иначе Селия воспримет наши действия как тяжкий упрек в том, чего она изменить не в силах.
– Да, правда, мне бы совсем не хотелось ее огорчать, – сказал Гарри, и тон его сразу стал нежным, как и всегда, стоило ему вспомнить о своей хорошенькой жене. – Но ведь Селия все равно все поймет, если я подпишу этот договор о совместном владении.
– Если дело уже будет сделано, ее будет утешать понимание того, что будущее Джулии полностью обеспечено, что ее дочь будет хозяйкой Широкого Дола. Я думаю, она даже обрадуется тому, что Джулия и Ричард станут сонаследниками.
Гарри кивнул, встал из-за стола и выглянул в окно. Услышав скрип шагов по гравию, я тоже встала с ним рядом и увидела своего мужа, который с понурым видом брел по дорожке к розарию. Было совершенно очевидно, что оставленная мною бутылка уже наполовину пуста – Джон чувствовал, что должен выпить стаканчик-другой, чтобы помочь себе пережить очередной надвигающийся на него мрачный день. День, лишенный смеха, радости и любви, день в доме, где мерзко воняет грехом. Увы, мой блестящий муж давно утратил и легкость своей походки, и свою горделивую осанку – все то, что делало его таким привлекательным и ловким ухажером, таким легким и умелым танцором, таким чудесным любовником. Я отняла у него все его добродетели и всю его силу, полностью лишив его власти надо мной. И если бы я знала, как мне действовать дальше, я отняла бы у него и нечто большее.
– А как же Джон? – тихо спросил Гарри.
Я пожала плечами.
– Как видишь, – сказала я. – Я, во всяком случае, ни о чем ему рассказывать не собираюсь. Он же почти лишился разума от пьянства и не способен ни о чем судить здраво. Если это так и будет продолжаться, я буду вынуждена написать его отцу и выяснить, нельзя ли сделать тебя или меня поверенным в его делах, чтобы мы имели возможность распоряжаться его состоянием. Ему самому никак нельзя сейчас доверить такое богатство. Он буквально завтра же может все деньги спустить на выпивку.
Гарри покивал, не сводя глаз со сгорбленной спины Джона, потом спросил:
– Неужели он так пьет из-за угрызений совести? Потому что он случайно ошибся и велел дать маме слишком большую дозу лекарства?
– Я думаю, именно так и есть, – сказала я. – Он со мной откровенничать больше не желает, понимая, что я не могу простить ему того, как он вел себя в ту кошмарную ночь. Ведь если бы он не был так пьян, наша дорогая мамочка, возможно, была бы жива. – Я прижалась лбом к оконной раме. – Я каждый раз не могу сдержать слез, когда вспоминаю, как ей неожиданно стало плохо, а этот клоун перепутал и дал ей чересчур много настойки опия.
Лицо Гарри вспыхнуло от гнева.
– Я тебя понимаю! – воскликнул он. – Ах, Беатрис, если б тогда знать наперед! Но ведь у мамы всегда было слабое сердце; мы все понимали, что однажды потеряем ее, так что ничего нельзя утверждать наверняка…
– Нельзя, но я уверена – и никогда не смогу простить этого Джону! – что мы потеряли ее из-за того, что он в тот вечер практически себя не помнил! – отрезала я.
– Интересно, а что вызвало у мамы такой приступ? – спросил Гарри, трусливо глядя мне в лицо. – Джон понял, в чем дело?
– Нет, – солгала я ему в ответ. – Мама упала как раз перед дверью в гостиную, собираясь войти. Возможно, она слишком быстро спустилась по лестнице, и у нее закружилась голова. Джон не сумел выяснить, что послужило началом приступа.
Гарри кивнул. За такую сладкую ложь он всегда был готов с жадностью ухватиться, особенно если правда была слишком неудобна или неприятна.
– Я понимаю, разумеется, что полностью уверенными ни в чем быть нельзя, – сказала я, – но и ты, и я, и весь дом видели, насколько Джон был пьян. Всему графству известно, что он взялся лечить ее, хотя почти ничего не соображал, и вскоре она умерла. Нет, я не могу ему этого простить. Конечно же, ему стыдно. Он ведь и носа из усадьбы не показывает с тех пор, как это случилось, если не считать маминых похорон. И, заметь, его совсем перестали приглашать к больным. Не зовут даже в самые бедные дома. Все считают, что он был пьян и потому совершил непоправимую ошибку.
– Ему, должно быть, очень горько сознавать это, – сказал Гарри, глядя, как Джон бредет по дорожке розария к маленькой беседке, потом, пошатываясь, поднимается по ступенькам и усаживается с таким видом, словно до предела устал.
– Да, конечно, – согласилась я. – Вся его жизнь была связана с медициной; он так гордился своей обширной медицинской практикой. Мне иногда кажется, что он думает о смерти.
То, с каким затаенным удовольствием я это сказала, понял даже мой туповатый братец.
– Неужели ты так сильно его ненавидишь? – спросил он. – Из-за мамы?
Я кивнула.
– Да. Он так подвел маму, так подвел меня! Он нарушил свой врачебный долг! Я презираю его – и не только потому, что он был так пьян в ту ночь; он ведь с тех пор каждую ночь пьян. Лучше бы я за него не выходила! Но я надеюсь на твою помощь и поддержку, Гарри. Надеюсь, мы сумеем сделать так, что он больше не сможет причинить мне никакого вреда.
– Я понимаю, – сказал Гарри. – Понимаю, какой это для тебя позор, Беатрис. Но я обещаю тебе, что никогда не дам тебя в обиду. А если отец Джона действительно передаст тебе его долю наследства, то Джон будет совершенно безвреден. Он ничего не сможет сделать, если будет владеть только тем, что ты ему даешь, а жить будет там, где ты ему позволишь.
– Да, так нам и придется поступить, – сказала я, словно размышляя вслух. – Это в любом случае будет необходимо сделать, пока мы не узнаем, можно ли изменить право наследования.
Нужные сведения мы получили лишь через два долгих месяца. Наши лондонские юристы порылись в старых пыльных записях, сделанных сотни лет назад, и выяснили, что в Широком Доле принято решение наделять правом на наследство исключительно сыновей рода Лейси. Так, собственно, было принято повсеместно. В те давние времена, когда мои предки впервые появились в Широком Доле и увидели эти сонные холмы и горстку жалких глиняных хижин, крытых дранкой, все они были воинами и пришли сюда вместе с норманнскими завоевателями, жаждавшими новых земель. Женщины, с их точки зрения, годились лишь для того, чтобы вынашивать и рожать для них сыновей-солдат. Все остальные женские качества практически никакой цены не имели. Тогда-то и было решено, что только сыновья могут и должны становиться наследниками всего.
И никто никогда этого не оспаривал.
Поколения женщин сменяли друг друга на этой земле. Выходили замуж, спали со своими мужьями, рожали им в муках детей и, оставшись одни, мужественно управляли своим поместьем. Матери и невестки наследовали только ответственность, но не власть, тогда как мужья и сыновья отдавали приказания, забирали все доходы себе и снова уезжали восвояси. Сквайры-крестоносцы на долгие годы покидали Широкий Дол, поручая его заботам своих женщин, и, вернувшись, видели, что в полях мир и покой, урожаи хороши, доходы неплохи, дома отремонтированы, да и построек новых немало, и земля по-прежнему плодородна. Чужаки на родной земле, загорелые до черноты под солнцем чужих стран, эти мужчины все-таки, наконец, возвращались домой, и вся власть снова оказывалась у них в руках. И женщины отдавали эту власть без малейших возражений, хотя именно они так щедро тратили годы своей жизни, отдавали всю свою любовь во имя процветания Широкого Дола.
Гробницы хозяев Широкого Дола находятся там, в нашей церкви, хотя эти люди почти всю свою жизнь прожили за границей. Теперь они возлежат на собственных надгробиях в рыцарских доспехах, и руки их молитвенно сложены на закованных в металл животах, ноги неудобно скрещены, а невидящие глаза уставились в потолок. Я иногда представляю себе, как кто-то из них лежит в постели рядом со спящей женой и смотрит вверх, на деревянный балдахин той самой кровати, на которой теперь сплю я, но видит перед собой пустыню, толпы неверных и Иерусалим где-то на горизонте.
А жены этих людей спали так же крепко и глубоко, как сплю я после целого дня тяжелой работы с бумагами, продолжающейся до тех пор, пока цифры не начинают плясать у меня перед глазами, и тогда я беру свечу и отправляюсь в спальню, буквально падая от усталости. Так же крепко я сплю и в те дни, когда приходится перегонять овец на нижние пастбища, и я вынуждена целый день проводить в седле, объезжая стада этих глупых созданий и, точно крестьянка, покрикивая на собак. Или когда жатва то и дело прерывается дождями и я весь день нахожусь в поле, криками заставляя людей работать быстрее: «Скорей! Скорей! Надвигается буря! Осень скоро, а у нас зерно в амбар не убрано!» Я думаю, жены тех сквайров-крестоносцев были столь же усталыми, как и я в такие дни, и спали они так же крепко, как и я – сном усталой и сильной женщины, которой приходится править и этим домом, и этой землей. У нас, женщин, нет времени на мечты или на поиски сражений и славы. Нас оставляют дома, а дом, как известно, нуждается в присмотре; нас оставляют на земле, которая, как известно, нуждается в хозяине; но только наши труды не приносят нам ни славы, ни власти, ни богатства.

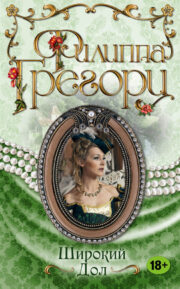
"Широкий Дол" отзывы
Отзывы читателей о книге "Широкий Дол". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Широкий Дол" друзьям в соцсетях.