Так и сегодня: таинственность, сопровождавшая визит Николы в дом, где жили Божена и Томаш, и то, что она попросила его остаться внизу и в случае, если он увидит Томаша, дать ей об этом знать, — все это было неприятно ему. Но в то же время он чувствовал, что Никола, в которой появилось нечто, тянувшее его к ней больше прежнего, теперь в его власти и скоро между ними не останется ничего недоговоренного.
Все вскипало в его груди, когда она, как‑то по‑новому опуская глаза, прощалась с ним по вечерам и уходила в сумрак своего старинного дома. И вскоре в черноте полукруглого окошка он видел ее лицо. Потом она выходила на балкон, и они прощались еще раз.
Иногда, не расслышав что‑нибудь, она снова спускалась к нему, и тогда, сминая в своих руках ее длинные, казавшиеся ломкими руки, Иржи вновь притягивал ее к себе и шептал такие слова, что Никола на несколько минут забывала обо всем.
Но иногда ей казалось, что в эти минуты Томаш стоит за ее спиной и смотрит на ее пылающее, разбуженное им тело. Она хотела избавиться от томящего ее наваждения — и не могла. И когда она все же уходила, то получалось, будто Томаш уводит ее за руку.
На смешливом, подвижном лице возмужавшего за последний год Парижа она все чаще замечала непримиримое выражение. «Может быть, и он видит за моей спиной своего незримого соперника?» — думала Никола.
И на его «иди ко мне» она неизменно отвечала туманным «я с тобой, Париж» и вновь и вновь уходила от него по вечерам, не решаясь на желанную для них обоих близость. Но его обезоруживающая улыбка заполняла ее сны, и она не раз уже, просыпаясь, мечтала увидеть его рядом.
…Получив на почте небольшую бандероль, они направились в Консерваторию. Там их вмиг подхватила и развела в разные стороны всеобщая предрождественская суета.
Улучив свободную минуту, Никола присела в балетном классе на единственный табурет, рядом с огромным, чуть мутноватым зеркалом, отражавшим уже темнеющее окно и огромную люстру, посверкивающую между полом и высоким потолком, достала из сумочки легкий сверток и распечатала его.
Николе была отлично знакома непредсказуемость подарков от Божены, но на этот раз сестра превзошла саму себя!
В посылке оказались два нарядных незапечатанных конверта. Первым Никола открыла тот, в котором лежал билет, подписанный на имя Томаша, и удивилась сказочности приглашения: билет давал право недельного проживания в Венеции! Но тут же она досадливо поморщилась: видимо, во втором конверте билет для нее. А ей совсем не хотелось оказаться вместе с Томашем на карнавале, ей вообще не хотелось встречаться с ним! Неужели Божена еще не получила ее письма? Оно, не называя имени Томаша, прозрачно намекало на разрыв с ним и было переполнено рождавшейся тогда нежностью к знакомому сестре Парижу.
Не ожидая ничего хорошего и уже забыв за своими мыслями об окончании записки, прочитанной ею еще днем, Никола раскрыла второй конверт. И неожиданная радость заставила ее ахнуть: два билета! На одном ее имя, а второй не подписан! Не помня себя от радости, Никола выпорхнула из своего укромного уголка и, прижимая к груди ставший бесценным подарок и кружась на лету, побежала по коридорам, разыскивая Иржи.
Они столкнулись в полутемном коридоре на последнем этаже. Он нес огромную охапку концертных костюмов, видимо из костюмерной, и напевал что‑то сумбурно‑веселое. Никола, разлетевшись, едва не сбила его с ног, но, поскользнувшись, чуть не упала сама и одной рукой схватилась за его шею. Иржи выпустил из рук костюмы, подхватил Николу и, дурашливо пародируя сотни раз репетированную ими классическую поддержку, собирался уже опустить партнершу на разноцветную кучу, но его нога зацепилась за рукав какого‑то платья — и галантный кавалер оказался на куче тряпья сам, рядом с рыдающей от смеха Николой.
И, чувствуя такую неожиданную близость ее тела, он, почти не отдавая себе отчета в собственных действиях, порывисто прижал Николу к себе — и ее смех тут же прекратился, а тело стало опьяняюще послушным. И тогда он прошептал:
— Вот ты и пришла… Ты опять моя, Никола… Но она вдруг встрепенулась и стала отыскивать что‑то, роясь в пестром тряпье. И, вытащив чуть помятые конверты, подняла их высоко над головой и пропела:
— Танцуй!
Домой они возвращались поздно.
Иржи нес в своей неизменной сумке, висевшей за спиной, все для праздничного стола. Рождественская ночь обещала быть по‑настоящему волшебной. Они молча брели по ярко освещенным улицам, ощущая в душах счастливую усталость от прожитого дня, и мысли их, смешавшиеся в холодном воздухе, были спокойны, как неторопливо слетающийся к фонарям рождественский снег.
Почему‑то, не сговариваясь, они оба были уверены, что с некоторых пор — а именно с сегодняшнего вечера — дом у них один, и им не придется больше прощаться каждый день до утра, не придется расставаться вообще.
Но так как Иржи жил далеко, за чертой Старой Праги, а квартира Николы всегда оказывалась под рукой, где бы они ни бродили вдвоем, — ноги приводили их по привычке к серокаменному особняку с синеватой мозаикой на купольной крыше.
И Париж впервые не стал пересчитывать глазами этажи (первый — окошки квадратные, на втором — прямоугольные, и шапочки полукруглых — на третьем), ища окно, стекла которого всегда готовы были затуманить черты той, которая так часто покидала его на целую ночь.
А Никола не теребила кончик косы и не прятала огромные серые глаза. Она не пыталась заставить себя уйти — сделать два шага в сторону порога и остаться наедине со своими тревожными мыслями.
Они не дошли до подъезда с десяток шагов, когда от стоявшей на набережной канала присыпанной свежим снегом машины отделилась темная фигура и двинулась к ним, контрастно выделяясь на снежном фоне.
Никола не сразу узнала Томаша, а узнав, почему‑то не удивилась: будто преследовавшая ее все эти дни его тень, выдворенная из ее сознания, очутилась на улице и бродит теперь, неприкаянная, у ее дверей. Это было так смешно, что Никола не выдержала и засмеялась. Будто поняв причину ее смеха, Париж, так долго ждавший встречи с соперником, стоял теперь перед ним и безобидно смеялся вместе с Николой.
Томаш, проведший в машине не один час, комкал теперь в голове тщательно продуманный план нападения и не чувствовал уже себя в роли разоблачителя — скорее в роли разоблачаемого.
Он смотрел на их веселые счастливые лица и не знал, что сказать.
А Никола, будто продолжая игру, начатую когда‑то им самим, успокоившись, произнесла:
— Здравствуйте, Томаш. Вы, кажется, знакомы? — и она кивнула в сторону Парижа. — Мой друг и коллега Иржи Фиалка, — а затем почтительно перевела взгляд на шляпу Томаша, — муж моей сестры и тоже ее коллега Томаш Фишер.
И, отступив на шаг, она дала им пожать друг другу руки. А потом, чтобы вновь не рассмеяться, стала рыться в сумочке, пытаясь сразу достать нужный из двух конвертов.
Хотя Божена и не просила ее скрывать от Томаша, что не он один приглашен на карнавал, Никола безошибочным женским чутьем ощутила, что именно так нужно сделать. Проснувшийся в ней игрок подзуживал ее и дальше вести Томаша с завязанными глазами на приготовленные Боженой подмостки и не давать ему ни минуты на подготовку — хотя бы сейчас. И поэтому она сходу обрушила на него эту новость. Протягивая конверт, невинно сказала:
— Божена поручила мне поздравить вас с Рождеством и попросила передать вот это.
Томаш молча протянул руку и засунул конверт в карман пальто, но потом спохватился и сдержанно поблагодарил, добавив:
— Вечно Божена что‑нибудь да придумает. Открою его в полночь. — Пытаясь вернуть себе былое самообладание, он, произнося последнее слово, взмахнул руками, как старая колдунья из детской сказки, и тоже попытался выдавить из себя беззаботный смешок.
Но стоящие чуть поодаль от него двое не подыграли ему, а лишь вежливо улыбнулись.
Не зная больше, что делать, Томаш, будто в чем‑то оправдываясь перед Иржи, заговорил, обращаясь почему‑то к нему одному:
— Я ведь тоже заехал, чтобы проверить, все ли в порядке — Божена волнуется, да и я, да, я тоже иногда справляюсь, как тут наша меньшенькая себя чувствует.
Но вздрогнув от произнесенного им самим слова — а оно было еще из той, беззаботно‑давнишней жизни, когда он время от времени встречал Николу после занятий и приводил к ним домой, на совместный ужин, — торопливо прибавил, говоря уже им обоим:
— И тоже с подарком от Божены. Минутку.
Он пошел к машине и вернулся с уже знакомой Николе бутылью домашнего вина, видимо остававшейся в багажнике с их несостоявшегося загородного пикника.
— И от меня тоже. Примите.
Париж протянул было руки, но в последний момент вдруг отдернул их… Нарочно ли, случайно? Никола не поняла, но вскрикнула, услышав звон бьющегося стекла. И отпрыгнула, спасаясь от ярких рубиновых брызг.
Иржи и Томаш стояли, забрызганные вином, и смотрели друг другу в глаза. Еще немного — и они сцепились бы в немой потасовке, но Никола подскочила к ним и, дурачась, взялась причитать по‑деревенски:
— К счастью, ох, к счастью, милые вы мои, ну как же вас угораздило‑то, дорогие мои?
Больше не в силах сдерживать раздражение, Томаш, сухо откланявшись, круто развернулся и, хлопнув дверцей, поспешно уехал, отравив их напоследок ядовитым облаком сизого дыма. А Никола, тоже не желая больше медлить, потащила еще взъерошенного от вспыхнувшей в нем ненависти Парижа по лестнице и, введя его в свой дом победителем, облегченно вздохнула.
Глава 16
Вот Рождество и пришло в Италию. Хотя Божене казалось, что в этой части земли, где есть только два времени года — весна и лето, оно никогда не наступит.
Фаустина, всю последнюю неделю ходившая по мастерской со стружками в волосах, утром, накануне праздника, не пустила пришедшую в мастерскую Божену на свою половину. Пообедать она вышла в комбинезоне, покрытом пятнами краски, и Божена наконец вернулась на землю и почувствовала, что ее любимый праздник не оставит ее в стороне. Ей захотелось и самой окунуться в приятную суету: рождественские подарки — с детства любимая забота — готовы были вернуть ее в жизненный круговорот, прерванный отъездом из Праги, из ее общего с Томашем дома.
И она незаметно выскользнула из четырех стен своего нового пристанища и спустилась по гулкой лестнице вниз.
Вышедшую из сырости лестничного колодца Божену с ног до головы залило солнце. По ее телу пробежали мурашки: будто тоненькие солнечные струйки залились за шиворот легкого пальто и побежали по телу, щекоча его сверху вниз. В голове проснулся какой‑то прилипший еще вчера, но забытый к вечеру мотивчик, и ощущение весны, ставшее для нее уже обычным итальянское чувство, вновь заспорило с волшебством зимнего Рождества.
Но она тем временем уже шла по Старому мосту, на котором велась бойкая предпраздничная торговля, и в пестроте чужих фантазий ловила взглядом что‑нибудь необычное — для Фаустины.
Эта женщина, так внезапно возникшая в ее жизни — будто для того только, чтобы сыграть в ней свою небольшую, но яркую роль, — могла в любое мгновение выскользнуть из нее, оставив в душе Божены благодарное восхищение. И ей хотелось оставить Фаустине что‑нибудь еще, кроме воспоминаний, на память об их дружбе.
Божена мало знала о ней: Фаустина была молчуньей еще в большей степени, чем она сама. Но судьба, вот уже много лет вновь и вновь приводившая Фаустину к спокойному одиночеству, казалась Божене похожей на ее собственную судьбу.
«Вот оно, мое будущее. Фаустине сорок. Сейчас она живет, не размениваясь на страсть и треволнения мимолетной любви. Она не дурна собой, но ее красота целомудренно украшает ее жизнь, не становясь приманкой для жадных глаз. Разве это не прекрасно?»
Подобные мысли, высокопарные и холодные, раньше никогда не посещали Божену. Но теперь, оставшись одна, она хотела получить от жизни доказательства того, что поступила правильно, — и порой искала их в судьбе окружавших ее людей, в своем настроении. Иногда ей нравилось представлять себя свободной и одинокой, бредущей по жизни с единственной привязанностью — к искусству.
Но вдруг она заметила в толпе, переполнявшей мост, взгляд, будто идущий за ней на поводу. Сухощавый итальянец, коротко стриженный, с влажными крупными глазами на сухом лице, стоял, прислонившись спиной к стене одного из ювелирных магазинчиков, и не отрываясь, видимо, уже давно смотрел на нее. И когда она почувствовала это и посмотрела в его сторону, он не сразу отвел глаза. Но в них не было вызывающей наглости, той, что на несколько мгновений словно делает тебя чьей‑то собственностью, — нет. Этот итальянец смотрел так, как смотрят на щемящий сердце закат — любуясь и не ожидая ответа.

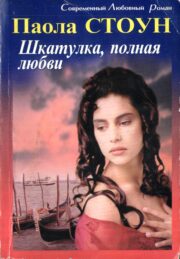
"Шкатулка, полная любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Шкатулка, полная любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Шкатулка, полная любви" друзьям в соцсетях.