— Но можешь и ничего не выведать, зато работа твоя — тю-тю. Ты что, мальчишка, которому грезы спать не дают? Неужели тебе правда не дают покоя сны про темноволосую красавицу, которая пишет стихи? Может, все-таки справишься со своей дурью? Тебя что, ничему не научили война и служба на бойне, и тот пожар, и восемь лет, которые ты прожил в этом паршивом городе, где тебя со всех сторон окружают подделки? Ведь ты уже был однажды женат и как! — всем на зависть.
— Причем тут та женитьба?
— А ты пошевели мозгами.
— Ну, пошевелил. Слушай, хватит меня за дурака держать. Я ведь Сильвию никогда не видел, похоже, и не увижу, раз все так складывается. Я человек трезвомыслящий, меня не раз обожгло и похуже, чем на пожарах бывает. Просто есть шанс за шестьдесят дней заработать пять тысяч долларов. Да еще и расходы оплачиваются. А столько я за весь последний год не заработал, так-то; уж какие тут могут быть чувства? Так что отвяжись, очень тебя прошу.
На этом мой диалог с собой окончился, только не так, как должен был, уж это я чувствовал безошибочно. Я выкурил еще сигарету, глядя, как разгорается день, не обращавший внимания на висевший над Лос-Анджелесом смог.
Глава VII
Генри Инглмен — из фараонов, которые не берут По происхождению он датчанин, трудно пробивал себе дорогу и, вопреки всему, сумел кое-чего добиться. Некогда мне тут о нем распространяться, скажу только, что ему уже скоро на пенсию и что на западном побережье лучшего эксперта по почерку не сыскать. Брать он действительно не берет, но угостить себя обедом позволил, правда, пришлось на него нажать. И вот он сидит передо мной в ресторане, где подают отличные бифштексы, жует с энтузиазмом да вздыхает, до чего тут дорого.
— Вы напрасно думаете, Мак, что с пищеварением у меня станет лучше, если пообедать за шесть с половиной долларов, а если деньги платит шотландец — шотландцы ведь известные скряги, — так аппетит сразу пропадает.
— Успокойтесь, я же не из своих плачу. Расходы покрывает заказчик.
— Так что вам нужно?
— Информация кое-какая.
— Если вам нравится эта работа, шли бы служить в полицию.
— Вовсе она мне не нравится. Только и радости, что иной раз судьба с интересными людьми сводит, вот вроде вас.
— Мура, как вы, американцы, выражаетесь.
— Я так не выражаюсь.
— Ладно, оставим. Но прежде чем вы приметесь меня потрошить, скажите-ка, Мак, была ли у древних народов каллиграфия?
— Была кое-какая, если речь идет о прямых углах, закруглениях и тому подобном.
— А у кого она была?
— Ну, у египтян, демотическое письмо называется. У иудеев тоже, там все завитки, завитки, это они частью от арабов переняли. У греков в общем-то тоже, и римляне как раз к тому шли. Вижу, произвел на него впечатление — обычное дело для самоучек: они всегда завидуют учившимся в колледже, самим-то им пришлось просто зубрить да запоминать, как школьникам перед экзаменом, не понимая, в чем суть. С каким вниманием, как благодарно слушает, пока я перед ним свою эрудицию демонстрирую, а потом, за кофе с десертом, мы поменялись ролями, и он охотно, добросовестно выложил мне все, что я ожидал от него получить. Дал я ему ту записку Сильвии Вест, полученную от Саммерса, и он ее изучал со всем тщанием. Минут пять и так и сяк вертел, а потом говорит, словно бы извиняясь:
— Уж позвольте мне тоже кое-чем перед вами щегольнуть, Мак. Глядишь, я вам состояние принесу, расшифровав эту записку.
Я был весь внимание: это же большая удача, немногим удается вот так поприсутствовать не при сухом свидетельстве в суде или при полицейской экспертизе, а при вдохновенном анализе, производимом лучшим из всех известных мне экспертов по почерку. Инглмен прищурился, очки в стальной оправе сползли ему на нос, и всякий раз, как он ко мне обращался, на лице его появлялась этакая заговорщическая улыбочка.
— Писавшей, Мак, — начал он, — от двадцати пяти до тридцати лет. Это красивая женщина. Сужу по уверенности и силе нажима. Почерк, которому скрывать нечего, значит, и она такая. Тем не менее есть в ней что-то такое, чего сразу не разглядишь, потому что она сама творила свой образ и выработала почерк, соответствующий этому образу. Вест — фамилия не девичья, взята по мужу или придумана, потому что ей понравилось звучание, а вот имя Сильвия точно передает суть ее прежнего облика, только та Сильвия очень сильно отличается от нынешней, так, по крайней мере, она сама считает. Но это ее мнение, а видите ли, Мак, женщинам свойственно заблуждаться на собственный счет. Если вам нужны мои догадки, что она такое на самом деле, милости прошу, но ведь догадки вам не требуются.
— Боюсь, нет, — сказал я.
— Возможно, это женщина опасная, решительная и, вполне вероятно, очень жестокая, а может, просто сильная, хотя, как знать, не исключаю, что она совсем не так сильна, как старается быть; в общем, судите сами, Мак.
— Ничего не смогу вам сказать. Мы с ней незнакомы, я никогда ее не видел.
— Неужели?
— Да, это так. Она что, из преступного мира, лейтенант?
— Глупо думать, что по почерку можно определить, преступник писал или не преступник. Только те, у кого патология, выдают себя почерком. Такое случается, но наш случай тут ни при чем. Совершенно ни при чем.
— Ну, а что она собою представляла лет десять-пятнадцать назад?
— Вы что, серьезно меня об этом спрашиваете, Мак? Так вот возьми да выложи?
— Все-таки попробуйте, пусть наугад. — Не время было расточать комплименты его мастерству. — Или вот что, скажите, тоже наугад, где она родилась?
— В Америке, да, это можно сказать уверенно — в Америке.
— А не в Китае?
— Если и в Китае, то писать училась точно не там. Я так думаю, — и он хитровато глянул на меня.
— А почему?
— Профессиональная тайна. — Инглмен улыбнулся. — Но, вообще-то, вы неплохо ориентируетесь. Есть вероятность, правда, очень небольшая, что она действительно училась писать в какой-нибудь американской школе в Китае, в том, довоенном Китае.
— Или, может быть, в английской школе, там такие тоже были.
— Нет, не в английской, разве что ее американский учитель был из англоманов.
Теперь уже я смотрел на него вопросительно, а он улыбался во весь рот, гордясь собой, как павлин, демонстрируя мне, что умеет делать такое, чего не сможет больше никто в нашем штате, может быть, никто в мире, а если все это один блеф, то по его виду такого не скажешь.
— В каком американском городе она училась писать? — спросил я, подчеркивая каждое слово.
— Мак, вы знаете, сколько в этой стране городов?
— Знаю. Я подсчитывал.
Инглмен перегнулся через стол, ласково похлопав меня по руке.
— Мак, милый мой, послушайте, — сказал он, все так же посмеиваясь, — Сейчас я вам покажу свой самый лучший трюк. Только никому не говорите, не то меня со службы выгонят и без пенсии оставят, скажут, что нечего деньги платить всяким жуликам.
— Никому не скажу, а вы никому не скажете про Сильвию Вест. Договорились?
— Договорились, Мак. Так вот, я вам скажу, в каких городах и штатах она не училась писать. — Он откинулся, закрыл глаза. — В Нью-Йорке, включая почти весь штат. В Бостоне, а пожалуй, можно и весь Массачусетс считать, и в Ричмонде, Виргиния тоже исключается, и не в Чарлстоне, Южная Каролина, прибавьте Чикаго, Миннеаполис, Омаху и, думаю, Канзас-Сити — Глаза открылись, смотрит на меня, сияя от восторга.
— Кое-какие города еще остались. Да все равно, не верю я вам, — сказал я.
— Мак, вы же не считаете меня шарлатаном, правда? Пусть даже я и предсказываю судьбу, как вам говорил. Сейчас расскажу, в чем тут хитрость. Вообще-то, все очень просто, когда узнаешь, да с подобными трюками всегда так. Много лет назад чуть не в половине американских городов детей обучали письму при помощи так называемого метода Палмера. Страшная глупость, мучили ребенка, заставляя его выводить буквы движением чуть не всей руки до самого плеча. Не помните?
— Кажется, помню.
— Ну? Просто, правда ведь? У тех, кого учили методом Палмера, что-то такое осталось в почерке на всю жизнь. Но даже школьные попечители в конце концов поняли, что детям, кроме мучений, от этого метода никакого проку, и отказались от него. Вы что, думаете, мне трудно распознать, кого этим методом калечили? Так вот, ваша незнакомка тоже училась писать по Пал-меру, так что мне осталось только припомнить, когда и где от него начали отказываться. Так что не спешите со своими подозрениями насчет шарлатанства, не зря потратились на обед и кружку пива для меня.
Глава XVIII
Погасшая луна
И отблеск еле видный
На брюхе свиноматки,
Которая рожает.
Смешались кровь и рвота,
И спазм идет за спазмом.
Священный акт рожденья,
О звуки колыбельной!
Я слышу вас, я слышу,
А рвота заливает
Пивного бара стойку,
Где в кружках души плещут.
В полях гуляет ветер,
Качнулся стул под пьяным,
Все ищем, ищем, ищем
Сосцы с любовью соком
И все их не находим,
А жажда нестерпима.
И что же утолит ее?
Не одурь, не плацента
с кровью,
Лишь ты, о аква нонго,
ты, целитель,
К тебе стремлюсь,
тебя лишь вспоминаю,
И о терпении прошу,
о силе вынесть,
А клятв иных к луне
не обращаю.
У себя в офисе я перечитал стихи еще раз. В шестой, седьмой, восьмой раз. Перечитывая, пытался представить себе возникающие из этих слов картины, образы. Так всегда бывает, когда читаешь что-то стоящее, но картины рассыпались, едва я пробовал придать им некую рациональность, а образы словно таяли, ускользая. Я прочел стихотворение вслух, как будто мне предстояло разбирать и оценивать его в классе, но осталось лишь ощущение какого-то ритма, звука, складывающегося узора, и странная горечь возникла, и ужас, как будто прозвучала чудесная музыка, но стоило мне попробовать разложить ее на такты и ноты, отыскивая секрет, как тут же она умолкла, точно съежившись.
Судить об этих стихах я не мог. Может быть, замечательная поэзия, но, возможно, и сущая чепуха. Плохо это, хорошо или никак — не знаю. Пробовал вообразить, что, читая эти строчки, должен был испытывать Фредерик Саммерс. Или некогда знаменитый мистер Холл. Или хотя бы Энн Гольдфарб — что она при этом чувствовала? Я не чувствовал ничего.
Крохотную книжку я прочел от корки до корки еще накануне перед сном. Перечел после обеда. Вернулся в офис, оплатил какие-то счета, тщательно сложил бумажку в пятьдесят долларов, засунув ее в глубь ящика стола, и снова перечитал, начиная с первой страницы. А потом постарался сосредоточиться на заглавном стихотворении.
Поняв, что ничего не получается, я позвонил в университет профессору Бертраму Коену, к счастью, сразу же его поймав. Он не только меня вспомнил, хотя мы уже пять лет, как не виделись, ему даже вроде бы радостно было меня услышать. Решил, что стану проситься на работу в университет. Нечасто у него бывали такие одаренные студенты. Может, загляну как-нибудь, побеседуем?
Я сказал, что с радостью, как только у него найдется время — и это была правда. Он прекрасный специалист по древней истории и разговаривать с ним одно наслаждение. А сейчас не мог бы он мне оказать одну услугу?
— Ну конечно, мистер Маклин. Все, что в моих силах.
— Скажите, профессор, у вас на факультете нет специалистов по современной поэзии? Если есть, не могли бы вы устроить мне небольшую встречу?
— Есть, конечно, Кэвин Маллен. Между прочим, он сам достаточно серьезный поэт, мистер Маклин. Сейчас переговорю с ним и вам отзвоню, ладно? Можно сказать, что вам это нужно по работе?
— Так и есть.
— А как вам позвонить?
Я дал ему номер офиса, поблагодарил. Через полчаса он сообщил, что профессор Маллен ждет меня сегодня в десять вечера, если мне удобно. Дома, разумеется.
— Только вот что, мистер Маклин, — продолжал он, — не забывайте, о чем мы с вами в последний раз говорили. Давайте позавтракаем вместе, и не откладывая.
Я сказал, что обязательно, и не покривил душой.
Глава IX
К дому профессора Маллена в Брентвуде, старомодному бунгало в испанском стиле, я подъехал без нескольких минут десять, залюбовавшись этой постройкой, лет тридцать пять назад казавшейся безвкусной, грубоватой, крикливой, но со временем приобретшей нечто утонченное — особенно на фоне плоских крыш, прямоугольных окон и выпирающих углов, которые теперь видишь на каждом шагу. Дверь открыл сам Маллен, невысокий худой мужчина — роста в нем от силы сто шестьдесят сантиметров — с крупной головой, увенчанной копной седеющих неухоженных волос, и глазами такой ослепительной голубизны, что, казалось, их подсвечивают изнутри. Обычная хлопковая рубашка спортивного покроя, выцветшие, подштопанные голубые джинсы. Улыбаясь, он крепко стиснул мне руку, ввел в дом и сказал на удивление низким голосом:

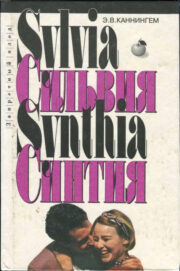
"Сильвия" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сильвия". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сильвия" друзьям в соцсетях.