Анна Годберзен
Слухи
Роскошь — 2
Джейку и Нику
Пролог
Меня только что пригласили в Такседо-парк на приватное и, несомненно, весьма изысканное торжество, которое субсидировано одним из лучших семейств Манхэттена. Я поклялся хранить тайну, сколько потребуется, а своим верным читателям обещаю рассказать обо всем, когда закончится эта неделя и я буду свободен от данного слова…
Представители низших классов Нью-Йорка чуть ли не регулярно видят теперь на городских улицах нашу аристократию — правда, лишь мельком: сливки общества заходят позавтракать в «Шерри» после одной из своих грандиозных вечеринок или катаются на санях в Центральном парке, этом демократическом месте встреч. Но за городом все иначе. Здесь богачам не приходится страдать от нескромных взглядов тысяч глаз. В этих снежных горах, расположенных в сорока милях к северо-западу от Манхэттена, они отдыхают от деловых сделок и городской суеты, и им не грозят нарушения порядка, порой имеющие место в городе. А все потому, что они, и только они имеют сюда доступ. В эти последние, холодные дни 1899 года высший свет потихоньку, небольшими группами ускользнул из города, как было условлено. В канун Нового года последние из них прибыли специальным поездом в Такседо-парк и высадились на частной станции, принадлежавшей приватному клубу. Весь день специальные поезда доставляли сюда орхидеи, икру, дичь и ящики с шампанским. А сейчас сюда приехали Шермерхорны и Шайлеры, Вандербилты и Джонсы. Их встретили экипажи, выкрашенные в цвета Такседо — зеленый с золотым — и украшенные памятными колокольчиками от «Тиффани», и помчали по недавно выпавшему снегу к бальному залу, где должно было состояться бракосочетание.
Те, у кого было собственное жилище в этой местности — коттедж, тронутый мхом и лишайником, — заехали туда освежиться с дороги. Дамы захватили с собой фамильные драгоценности и шелковые перчатки. Они упаковали свои самые новые шикарные туалеты, хотя кое-кто уже отчаялся блеснуть в этих нарядах, которые, как сообщалось в светской хронике, они якобы уже надевали в этом злосчастном сезоне. Мисс Элизабет Холланд, очаровательное украшение общества, утонула как раз в середине сезона, и с тех пор никто не решался предаваться веселью. Сливки общества дожидались января, когда можно будет наконец отправиться в круиз по Средиземному морю, а также по другим маршрутам в восточном направлении. Теперь, когда Новый год был совсем близко, а на горизонте неожиданно возник благословенный праздник, настроение у всех улучшилось. Одна — две дамы поведали шепотом, припудривая носики, что, по слухам, невеста будет на свадебной церемонии в подвенечном платье своей матушки, Однако эта дань милой традиции и скромности вовсе не означает, что гости не должны быть одеты по последней моде.
Лакеи в ливреях уже провожали прибывших в бальный зал, находившийся в главном здании клуба, где гостям подавали горячий пунш в маленьких хрустальных бокалах. Они обменивались впечатлениями о том, как преобразился бальный зал Такседо. В середине этого прославленного танцевального зала, на сверкающем паркете, был организован проход, усыпанный лепестками белых роз. В центре были установлены свадебные арки, украшенные хризантемами и ландышами. Гости шептались о том, как изысканно убран зал и как высок ранг приглашенных, — и это несмотря на то, что приглашения были разосланы в последнюю минуту.
Здесь была миссис Астор под темной вуалью, приехавшая на свадьбу, несмотря на плохое самочувствие, из-за которого она просидела дома почти весь сезон; поговаривали даже, будто она собирается отречься от своего трона королевы нью-йоркского общества. Она опиралась на руку Гарри Лера, обаятельного холостяка, о котором столько говорили благодаря его искусству дирижировать котильонами и блистательным остротам. Был здесь и мистер Уильям Скунмейкер, прокладывавший себе путь в первый ряд вместе с молодой миссис Скунмейкер — она была второй леди, носящей этот почетный титул. Миссис Скунмейкер посылала воздушные поцелуи и все время поправляла свои белокурые локоны и рубиновую тиару. Здесь также были мистер и миссис Фрэнк Каттинг, единственный сын которых, Эдвард (Тедди) Каттинг, был, как известно, близким другом сына Уильяма Скунмейкера, Генри Скунмейкера. Правда, с середины декабря этих двоих всего несколько раз видели вместе. А еще здесь был Корнелиус (Нейли) Вандербилт III с женой, урожденной Грейс Уилсон, которую в бытность ее дебютанткой считали слишком «бойкой» и из-за которой ее мужа чуть не лишили наследства. Но сейчас у нее был царственный вид: в панбархате, отделанном кружевами, с темно-рыжими локонами, уложенными в изысканную прическу, она выглядела настоящей Вандербилт.
Однако среди этих представителей аристократических семей не хватало нескольких человек, чье отсутствие бросалось в глаза. Дело в том, что среди этих ста гостей — здесь список был гораздо короче, нежели список тех, кто допускался в бальный зал миссис Астор, и на эту церемонию были приглашены лишь избранные — отсутствовали члены одной известной семьи. Многим это показалось странным, и кое-кто перешептывался об этом под мелодию струнных инструментов, возвестивших о том, что очень скоро начнется церемония.
А между тем по зданию со свистом гулял ветер. Сверкали сосульки, свисавшие с карнизов. Гостей, прибывших последними, попросили занять их места, и затем группа шаферов в черных фраках — а не в смокингах[1] — целеустремленно двинулась к своим местам. Последний из них, Тедди Каттинг, оглянулся, чтобы убедиться, что его друг готов. Музыканты заиграли громче, и толпа одобрительно закивала при виде Генри Скунмейкера, темные волосы которого были зачесаны набок, а красивое лицо как-то возмужало. Он занял свое место у алтаря. Была ли какая-то нервозность в его обычно бесшабашном взгляде? Что это — волнение или тревога? И тут его взгляд — да и взгляды всех присутствующих — устремились в проход, где появились красивейшие дебютантки Нью-Йорка, одетые в шифон, голубой, как глетчеры. Они двигались медленной процессией, одна за другой, через маленькую гору из розовых лепестков, изо всех сил стараясь скрыть девчоночьи улыбки. Когда прозвучали начальные ноты процессии из оперы Вагнера, в раме, образованной первой аркой, украшенной цветами, возникла грациозная невеста. Красота этой девушки поразила даже ее семью и друзей, которые начали перешептываться. Она была одета в кружевное подвенечное платье своей матери, в сжатых руках — большой букет из белоснежных цветов. Ее чувства трудно было разобрать из-за нарядной фаты, но, во всяком случае, она двинулась к алтарю твердой походкой. Как раз когда она заняла свое место рядом с Генри, распахнулась дверь, и на пороге появился запыхавшийся молодой служащий. Он прошептал что-то на ухо женщине, стоявшей у входа. В зал проникло дуновение холодного воздуха, затем раздался еле слышный шепот. Гул, возникший еще до церемонии, усилился, и вот уже весь зал тихонько жужжал. Этот гул не прекратился, даже когда преподобный откашлялся и начал церемонию. Взгляд темных глаз жениха блуждал по залу. Даже невеста напряглась. Голос священника продолжал монотонно читать, но лица собравшихся уже не казались такими безмятежными и радостными. Все усиливающееся чувство беспокойства настигло привилегированный класс даже здесь, где он уютно расположился в своем зимнем дворце, чтобы отпраздновать союз двоих самых ярких своих представителей. Брови гостей приподнялись, рты раскрылись. Внезапно показалось, что неприятности года, оставшегося у них за спиной, не так уж далеко. Что-то случилось, и это навсегда изменит их воспоминания о последних днях 1899 года.
1
«Несколько месяцев в Нью-Йорке были весьма унылыми из-за смерти мисс Элизабет Холланд, одной из любимиц общества, и из-за снежной бури, случившейся в конце ноября и укрывшей город снегом на несколько дней. Но элегантный Нью-Йорк не расстается с надеждой на чудесный зимний сезон, с вечерами в опере и с веселыми котильонами. И наше внимание неоднократно привлекли новые манеры мисс Пенелопы Хэйз, присущие настоящей леди. Она была лучшей подругой мисс Холланд, прожившей такую короткую жизнь. Быть может, мисс Хэйз унаследует шлейф ее безупречного декорума?»
— Простите, мисс, это действительно вы!
День был ясный, холодок бодрил, и, когда Пенелопа Хэйз медленно повернулась налево и взглянула чуда, где на узкой мощенной булыжником улице собралась толпа, она выдохнула теплое облачко, заметное в холодном воздухе. Ее большие глаза, голубые, как озеро, остановились на взволнованном лице девушки, которой было не более четырнадцати лет. Должно быть, она вышла из одного из многоквартирных домов, видневшихся за толпой. На их крышах были целые джунгли из черных проводов, разрезавших небо на ленты. На девушке было поношенное черное пальто, ставшее почти серым, лицо раскраснелось на морозе. Встретившись с ней взглядом, Пенелопа одарила девушку самой теплой улыбкой.
— Да, это я.
Она приосанилась, желая выставить в выгодном свете свою стройную фигуру и элегантный овал лица. Было время, когда ее знали как хорошенькую дочь нувориша, однако в последнее время она предпочитала пастельные тона и белое — излюбленные цвета скромниц ее возраста, помышляющих о замужестве. Правда, сегодня, учитывая, что ей придется пройти по улице, она выбрала более темный цвет.
Пенелопа протянула затянутую в перчатку руку и сказала:
— Я мисс Хэйз.
— Я работаю у Вайнгартена, в магазине мехов, — застенчиво сообщила девушка. — Я видела вас пару раз из задней комнаты.
— О, значит, я должна вас поблагодарить за ваши услуги, — любезно ответила Пенелопа.
Она слегка наклонилась, и это движение могло бы сойти за поклон, если бы не тугой воротник в стиле Медичи ее темно-синего пальто с золотым кантом: из-за этого воротника трудно было изобразить смиренный поклон. Снова встретившись взглядом с девушкой, Пенелопа поспешно добавила:
— Вы бы не хотели индейку?
Впереди уже двигалась процессия. Марширующий оркестр, игравший рождественские гимны, уже добрался до следующего квартала, и до нее донесся усиленный мегафоном голос мистера Уильяма Скунмейкера, который шел за оркестром. Он пожелал народу, толпившемуся на тротуаре, счастливого Рождества и ловко, как он это умел, напомнил, кто оплатил праздничный парад. Ведь парад был его идеей, и он заплатил и за оркестр, и за передвижные рождественские сцены, и за индеек. Мистер Скунмейкер организовал, чтобы его знакомые светские матроны и дебютантки раздавали этих индеек бедным. Они-то главным образом и привлекали народ, подумалось Пенелопе, когда она повернулась к своему верному другу Айзеку Филлипсу Баку и сунула руку в большой холщовый мешок, который он нес. Даже сквозь лайковые перчатки и слой газет она почувствовала, до чего холодна птица. Она была тяжелой, и ее было неудобно держать в руках. Пенелопа постаралась скрыть отвращение, когда выступила вперед с обещанной рождественской индейкой. Девушка, беседовавшая с ней, в недоумении взглянула на пакет, и улыбка ее угасла.
— Вот, пожалуйста, — обратилась к ней Пенелопа, стараясь не произносить слова скороговоркой. Ей вдруг отчаянно захотелось, чтобы девушка забрала у нее индейку. — Для вас, для вашей семьи. К Рождеству. От Скунмейкеров… и от меня.
После небольшой паузы девушка снова улыбнулась. Рот ее приоткрылся от радости.
— О, мисс Хэйз, благодарю вас! От себя… и… и… от моей семьи! — Потом она приняла у Пенелопы тяжелую птицу и обернулась к своим друзьям в толпе: — Посмотрите! — воскликнула она. — Эту индейку подарила мне лично мисс Пенелопа Хэйз!
Ее друзья издали удивленный вздох при виде этой замечательной птицы и исподтишка взглянули на Пенелопу. Им казалось, что они ее знают, поскольку имя ее так часто встречалось в светской хронике. Она стояла перед ними как законная претендентка на любовь публики, прежде принадлежавшую ее лучшей подруге, Элизабет Холланд, которая трагически погибла: она утонула несколько месяцев назад. Разумеется, Элизабет не утонула — на самом деле она была очень даже жива. И уж кому как не Пенелопе это было хорошо известно: ведь она сама помогла «непорочной» мисс Холланд исчезнуть, чтобы жить вместе с одним из слуг ее семьи, в которого она была влюблена. Таким образом, что особенно важно, Пенелопа могла по праву претендовать на жениха Элизабет, которого та оставила. Преображение Пенелопы было близко к завершению, так что самые экзальтированные светские матроны, а также газетные хроникеры уже шептались о том, как она теперь напоминает Элизабет. Раньше такие высказывания вряд ли польстили бы Пенелопе — в душе она считала, что добродетель несколько перехваливают, — но теперь она начала понимать, что у добродетели есть свои преимущества.

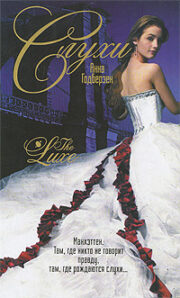
"Слухи" отзывы
Отзывы читателей о книге "Слухи". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Слухи" друзьям в соцсетях.