Во время обеда семейство отдает дань уважения пригородному алтарю, с мрачными жующими лицами и набитым ртом они рассуждают о падении матриарха. Хейди и Ричард применили уже достаточно терапии наедине друг с другом, поэтому разговор о них для кого-либо является проблемой. У свиньи и его секретарши собственные проблемы — соответственно обжорство и булимия. Поэтому павший матриарх остается единственной темой, это более аппетитно, чем перевариваемая пища. Что можно сказать о мясе, за исключением того, что оно немного суховато. В любом случае оно съедено. Маленький Ричи разбивает лед, он чувствует отсутствие единственного человека в его жизни, который не хотел поглотить его.
— А где бабушка?
— Бабушка…
Хейди делает попытку позвонить. Незнание — это не самое худшее. Потеря контроля — вот что приводит ее в ярость всякий раз, когда она пытается это сделать. Врач побуждает Хейди написать матери осуждающее письмо, но у нее нет адреса, и она предпочитает звонить. Она одержима сверхзапрограммированной регистрацией в такой же степени, как собственной матерью. Никто ей не отвечает. Если в трубке иногда слышится голос, все равно не удается узнать ничего — в ответ она слышит те же самые остроумные реплики. Ко всему прочему Хейди знает, что ее мать способна употреблять наркотики или общаться с гомосексуалистами. Невозможно вообразить женщину, которая имела бы столько денег и при этом употребляла героин и общалась с гомосексуалистами, не похожими на гермафродитов — парикмахеров из салонов красоты. Но чем еще она могла бы заниматься?
— Бабушка очень занята.
— А что она делает?
Маленький Ричи не стал дожидаться ответа. Пятилетний ребенок не может представить, что кто-то способен хотеть делать что-либо, кроме как находиться рядом с ним и есть. Как только он исчезает под столом, чтобы намочить штанишки, беседа продолжается с того места, на котором он прервал ее.
— Она будет съедена, если станет жить одна в этих джунглях, — сказала свинья, посасывая косточку.
— Ее могут ограбить, — заметила Хейди, расправляясь со своим перепелом.
— У этой женщины явно не в порядке с головой. — Ричард с торжествующей улыбкой выламывает у птички крыло. — Я предупреждал вас. Я видел, к чему все идет. Эта женщина не в своем уме.
Похоже, он обвинял свою жену в безумии ее матери. Пара мрачно переглянулась, это последствия скандала, который был у них до приезда гостей. Их растущая антипатия приправляет пресную пищу. Хейди угрожающе смотрела на него до тех пор, пока он не сдался с видом человека, которого шантажируют, как если бы у нее было что-то более угрожающее, чем большой нож, поэтому, даже не упоминая об этом, достаточно было простого взгляда, чтобы заставить его скрестить ноги.
— Похоже, ваша мать пытается начать новую жизнь, — предположила новая папулина жена дрожащим голосом, опустив вилку.
Дрожь в ее голосе выдает смущение, когда она великодушно разговаривает о женщине, которая великодушно пожертвовала ей своего мужа. Остальные подозрительно смотрят на нее. После ее предположения наступает долгая неловкая пауза.
— Хочешь еще что-нибудь съесть? — предложила радушная хозяйка, пытаясь заставить новую жену папули чувствовать себя как дома, нагружая на ее тарелку больше еды, чем та сможет съесть.
Слишком застенчивая, чтобы сопротивляться чему-либо, кроме засовывания пальцев в глотку, она преувеличенно горячо благодарит радушную хозяйку и, с извинениями, скрывается в ванной комнате. В тот же момент сплетни начинают вращаться вокруг нее. И ее неприличного расстройства пищеварения.
— Зачем ты принуждаешь ее есть? — возмутился Ричард.
— Я ни к чему ее не принуждаю, — парировала Хейди.
— Она съела достаточно. — Свинья переваливает содержимое ее тарелки на свою. — Не беспокойтесь о ней. Она в порядке.
Минутой позже, вытирая рот, женщина, которая не может прекратить блевотину, возвращается на свое место за столом, рядом с мужчиной, который не может прекратить есть, и беседа возвращается к другой женщине.
— Что бы твоя мать ни делала, — сменила свинья предмет разговора, — я уверен, она в хорошей компании.
В самодовольной апатии он воображает своих бывших жен, сидящих вместе на балете.
Но нет никакого балета. Только педики и космическая пыль…
Бабушка падает вниз от наркотика. Это было неизбежно. Как только вы достигаете верхней точки, начинаете опускаться в бездонную пропасть, расположенную гораздо ниже того плато, откуда начинали. Дамы на кушетке ожидают окончания падения перед новым отчаянным полетом вверх. У рояля Дивальдо поет, подражая Дорис Дей, воодушевленный мыслью, что, независимо ни от чего, все, что должно сбыться, — сбудется.
Не сбудется только то, что не должно.
— Посмотрите на себя, люди. — Дивальдо покачал головой. — Почему вы курите это дерьмо? Вы выглядите идиотами.
Они действительно выглядят как помешанные. Сидя рядом, они представляют собой странную пару. На одном нижняя одежда женщин. На другой — верхняя одежда мужчин. Наркотики сближают людей. Тех, которым стоило бы избегать друг друга. Они сидят бок о бок, принадлежа к совсем разным мирам, вместе уставившись на Дивальдо, как будто увидели призрак. Призрак Кармен Миранды.
— Ваша жизнь не находится в равновесии с природой, — говорит он им, и его слова кажутся неожиданно красноречивыми, несмотря на акцент; слова выливаются из него, как из трактата гуру, это похоже на песню, на банальную мелодию, которая тут же запоминается.
Они удивленно смотрят на него, загипнотизированные словами, и задаются вопросом, о чем это он говорит.
— Я стою на земле, — добавляет он. — В моей жизни есть только одна истинная любовь.
Он собирается проповедовать моногамию? Счастливую женитьбу на одной-единственной заднице?
— Бог. Я люблю моего Бога.
— Больше, чем Дорис Дей? — Червяк справился со своим ртом, и Барбара убедилась, что нарушение работы мозга не окончательно.
— Я благодарю Бога за Дорис Дей. Я благодарю Его каждый день. Я молюсь все дни ради большего.
— Для чего?
— Ради большего, в чем я нуждаюсь. Чем больше я молюсь Богу, тем больше он даст мне того, в чем я нуждаюсь.
— Больше задниц, для того, чтобы их трахать?
У некоторых людей мозги повреждены и без воздействия наркотиков.
— Вы, ребята, трахаете друг друга с наркотиками. Вы нуждаетесь в помощи. — Дивальдо перестал говорить так, будто читает по писаному, и перешел на свой обычный английский. — Я хочу помочь вам, ребята. Я сделаю вам хорошо-о-о-о. Я возьму вас к Глории. Она сделает вам действительно хорошо-о-о-о.
Глория? Это не песня? Звучит вполне религиозно. Нет сомнений, что Глория гадает на картах. Судьба дает шанс вытянуть счастливый жребий. В трансе они следуют за своим лидером, отдавшись в его руки. Барбара собирает свои мысли, Червяк надевает брюки, и они выходят, чтобы разделаться с этим. Они помолятся ради большего. Будут просить Бога или Глорию дать им коктейль «Пина-Колада». Бразильское гостеприимство непреодолимо. Они последовали бы за ним куда угодно. Подвергнутым лоботомии обязательно нужно говорить, что им следует делать. Где может быть лучше, чем в храме Господнем.
Он ведет их к зданию с обшарпанным фронтоном в переулке, полном крыс. Это больше похоже на бакалейный магазин, чем на храм. Барбара ожидала увидеть какую-нибудь буддийскую святыню. Дивальдо изъясняется как фанатик самого модного культа, в котором главное — сжатая для скандирования тарабарщина. Множество старых друзей Барбары посвятили годы жизни произнесению одних и тех же слов снова и снова. Но это менее нудно, чем обычная беседа. В ее нынешнем состоянии ума она с нетерпением шла навстречу этим бессмысленным словам. Наркотики такие буддийские. Или скорее под воздействием наркотиков все кажется настолько значительным, что никакое другое слово не может быть добавлено к этой значительности, кроме действительно бессмысленных звуков.
Но вместо всего этого, она оказалась в пустой темной комнате в присутствии маленькой пожилой дамы. Бабушки с чашкой на коленях. Это должно было что-то значить. Предзнаменование более отдаленного будущего. Если Барбара не очистит свою жизнь, она превратится в маленькую пожилую даму с чашкой на коленях.
Кармен Миранда объясняет:
— Раньше я был с народом Будды, я радовался с народом Йоруба, бил в барабан с народом Умбанда и остался с сырными людьми.
— С сырными людьми?
— Сыр наш Христос[7].
— Что может быть более сырным, чем сыр наш?
— Глория. Другой сыр. Но все они идут в одно место.
— В Диснейленд?
— Нет, Бар-ба-ра.
— На небеса?
— Да, Бар-ба-ра. Но как ты собираешься туда добираться?
— На самолете?
— Нет, беби.
— Скандируя?
— Беби, забудь о народах Будды. Они не дадут тебе ничего ради ничего, они даже не хотят твоих денег, и ты можешь выкрикивать и выкрикивать слова и звонить в колокол все дни подряд, но ничего не произойдет, если ты не… — он понижает голос, — если ты не принесешь жертву.
— Жертву?
— Да, Бар-ба-ра. Ты знаешь, что они говорят?
— Что они говорят?
— Нет боли, нет выгоды.
Живой цыпленок принесен в комнату черным мужчиной, обнаженным до пояса. Было что-то из жизни племен в этой процедуре, но с карибским привкусом. Звучала испанская речь. Откуда-то доносился запах бананов и готовящихся бобов.
Червяк прошептал ей на ухо, просто продолжая игру:
— Думай об этом как об очень экзотическом дрэг-шоу.
Это, должно быть, храм смерти. Во всяком случае для цыпленка. Барбара никогда не чувствовала себя принадлежащей к духовному миру.
Жизнь достаточно депрессивна и без постоянного напоминания о смерти.
Какая церковь не основана на культе смерти? Если бы мы все не знали, что обречены, как религия могла бы извлечь выгоду из этого обстоятельства, подобно гробовщику, торгующему вразнос погребальными урнами в минуту вашего горя. Нездоровые мудаки опрыскивают вас святой водой прежде, чем вы встанете на ноги, уже готовя кричащего младенца к могиле.
В комнату вошла высокая жрица. Глория. Пахнущая бананами и бобами, но облаченная в белую одежду. Должно быть, это ее униформа медсестры. У Глории имеется семья, которую она должна содержать, и, когда она не готовит и не убирается, удерживается на двух работах, одна из них — в здравоохранении, а вторая — на жертвоприношении. Старая дама, видимо, ее мать. Заболев болезнью Альцгеймера, бабушка стала исполнять центральную роль в храме смерти. Высокая жрица, похоже, и сама страдает от слабоумия и хронической злости. Так или иначе, она кубинка. Или испано-китаянка, наподобие ее кухни. Полная немолодая женщина с желтовато — коричневым цветом лица и платиновыми волосами, ее испано-английский особенно цветист, даже по сравнению с языком, на котором говорит Дивальдо. Она ругает его, ворча в направлении Барбары. Несмотря на ломаный английский, природа ее гнева почти понятна.
— Хоп-хоп! Зачем ты привести сюда эта БЖ?
— Что такое БЖ? — интересуется Барбара у Червяка.
— Это ты, милашка. Белая женщина.
— Розовая манда! — восклицает высокая жрица.
Для святой женщины она настроена слишком агрессивно, чувствуется, что она готова избить кого-нибудь. Дивальдо пытается успокоить ее тем, на что падки все религии. Деньги. Он машет ими перед ее лицом, но она поднимает руки с некоторой театральностью, демонстрируя, что они слишком святые, чтобы пачкаться финансовой выгодой. Она кивает в сторону пожилой дамы, и Дивальдо без колебаний помещает деньги в ее чашку.
— Нет бизнеса подобного шоу-бизнесу, — шепчет Червяк.
Цыпленку готовятся отрубить голову, и Барбара задается вопросом, какой во всем этом смысл. Это же должно что-то означать. Кастрацию? Или просто смерть, символ ее неотвратимости. Но для цыпленка это могло означать только одно. Цыпленок, приготовленный с рисом. С бобами и бананами.
Но для каждого поклонника жертвоприношения этот ритуал должен значить что-то еще. Для себя Барбара решила, что это подтверждение ее заключения в мире, лишенном смысла. Она могла только посочувствовать цыпленку. Она слишком цинична, чтобы верить в загробную жизнь, не верит в будущее и слишком зависима от своих земных потребностей.
Она все еще хочет улететь далеко-далеко для одного из последних дешевых острых ощущений, в отчаянии склевать жалкие крохи ради какого-то свершения здесь и сейчас. Эта старая пташка понимает цыпленка больше, чем кто-либо в этой комнате. Течение беспокойной жизни травматично, но пока это никого не заботит. Она уже чувствует себя подобно цыпленку, лишенному головы, эти последние недели ее жизни, бегущие по кругу в поисках последнего дешевого острого ощущения, чтобы в отчаянии склевать жалкие крохи ради какого-то свершения здесь и сейчас. Теперь она понимает почему.

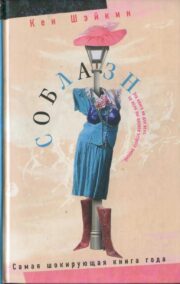
"Соблазн" отзывы
Отзывы читателей о книге "Соблазн". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Соблазн" друзьям в соцсетях.