— Тогда могу я поздравить вас, господин?
— Поздравить?! — С губ Соколли-паши сорвался сухой, лающий смешок, от которого по спине у меня побежали мурашки, настолько страшен был этот звук. — Поздравить, говоришь? Мы потеряли Астрахань, а ты хочешь поздравить меня?
— Но, господин, я всего лишь хотел сказать…
— Знаю, Абдулла. Не надо.
В комнате повисла тягостная тишина. А Соколли-паша не сделал ничего, чтобы разорвать ее. Напротив, он точно боялся нарушить ее, как мать боится качнуть скрипящую колыбель, когда ее заболевший ребенок только задремал.
— Молодые люди валились на землю, словно колосья пшеницы под серпом, — заговорил он наконец, будто разговаривая сам с собой. — Тысячи и тысячи их пали в тот день… Может быть, завтра утром я уже не буду визирем, ты должен понимать это, Абдулла. Тогда мне придется дать согласие на развод с твоей госпожой, согласиться на то, чтобы больше никогда не видеть ни ее, ни ребенка… И все благодаря Лала Мустафе, да покарает всемогущий Аллах его черную душу! Да, да, все случилось из-за того, что он соблазнился должностью Великого визиря! Он отдал бы все, лишь бы стать им! Мерзавец подкапывался под меня еще со времени мятежа Баязеда! Это его рук дело. Этот смазливый красавчик, сын Сулеймана, никогда бы не решился восстать против отца, если бы не Лала Мустафа! Это он вечно совал нос не в свое дело, это через его руки шла переписка между Константинополем и провинцией, губернатором которой стал Баязед. Да, мальчишка был красив и пользовался безумной популярностью среди простого народа, но он всегда оставался покорным сыном — не из тех, кто способен поднять меч на родного отца. Но Лала Мустафа и мать Баязеда, эта русская…
Соколли-паша внезапно осекся и замолчал, будто испугавшись, что может сболтнуть лишнее. Потом на лице его снова появилась улыбка.
— Не думай, что я не знаю, что такое сплетни, которые в таком ходу среди рабов, — хмыкнул он. — Я ведь и сам раб, а некогда был ничтожнейшим из всех, кто копошится на ступеньках дворца. Сплетни могут погубить меня в глазах Селима, лишить меня его милостей куда вернее, чем пьяная ярость этого ублюдка. Поэтому ты оказал бы мне огромную услугу, Абдулла, пустив слушок о том, что виновником нашего поражения под Астраханью является не кто иной, как Лала Мустафа собственной персоной — пусть его имя повторяют на всех углах, ты меня понял? И хотя он с пеной у рта станет утверждать, что выше этого, но я-то знаю, что он решился на предательство лишь по одной-единственной причине: мерзавец хорошо знал, что идею похода я вынашивал много лет. И с той минуты, как армия двинулась в путь, он сделал все, чтобы погубить нас. День и ночь он, словно летучая мышь, сновал между солдатами, нашептывая им в уши:
«Зачем нам эти земли в России, ради которых мы должны сражаться и проливать свою кровь? — твердил он им. — Зимой ночи здесь длинные, а дни короткие, а летом все наоборот. Ради того, чтобы соблюсти завещанные нам Аллахом законы и возносить ему положенные молитвы как обычно, на восходе и перед закатом солнца, нам придется забыть о сне. А во время месяцев строгого поста, когда есть и пить можно только лишь по ночам, мы погибнем от голода, ибо эти долгие дни воздержания попросту прикончат всех нас. Земли, куда мы держим путь, созданы Аллахом лишь для язычников, потому что нельзя оставаться мусульманином где-то в забытой Богом России».
Каким-то образом ему удалось убедить в этом и муфтия, которого он тоже перетянул на свою сторону. К тому времени, как мы подошли к Астрахани, ни у кого из моих людей уже не оставалось ни малейшего желания ни драться, ни даже защищать себя. Аллах против нас, рассуждали они, так что толку в их оружии? Даже сам Селим-Пьянчужка, хорошенько подумав, отказался идти с ними в это Богом проклятое место. И от этого они чувствовали себя еще более несчастными. И вот канал навсегда потерян для нас, а ведь это был наш единственный шанс разрубить мертвый узел между Персией и нашей великой державой. И теперь нам суждено сражаться друг с другом до тех пор, пока силы наши не иссякнут и мы не станем легкой добычей для тех же русских. Попомни мои слова, настанет день… И, зная все это, ты все еще хочешь поздравить меня?!
Тяжело вздохнув, Соколли-паша покачал головой. В комнате опять повисла вязкая тишина. Но потом он вспомнил о моем присутствии и о той вести, что я принес ему.
— Но смею ли я, ничтожный, роптать? — спросил он, изо всех сил стараясь сдержать желчную иронию, сквозившую в каждом слове, но она тем не менее просачивалась наружу, как вода сквозь песок. — Ведь нынче ночью я наконец стал отцом. Мой милый Абдулла, передай моей жене нежный привет. Я непременно поднимусь и взгляну на ребенка, как только ты сочтешь, что это возможно. А пока… подойди сюда. Смотри, вот первый подарок для моей дочки.
С этими словами Соколли-паша вложил в мою ладонь деревянную фигурку — гладко отшлифованную и ярко-раскрашенную, что выдавало ее иноземное происхождение. У мусульман такое не принято. Верхняя часть фигурки вдруг съехала в сторону, открыв моему взгляду еще одну, такую же, но поменьше, скрывавшуюся внутри нее, а внутри нее еще одну, и так дальше — семь крохотных деревянных куколок, уютно устроившихся одна в утробе другой. С трудом заставив себя оторваться от изумительного зрелища, я поднял голову и улыбнулся своему господину, не скрывая восхищения. Подумать только, подарок для дочери! Кто бы мог подумать, что Великий визирь способен на подобную нежность!
Улыбка, которой он ответил на мой удивленный взгляд, была достаточно честной. Однако в его глазах вдруг мелькнуло нечто такое, чего я так и не смог понять, сколько ни старался.
— Ты решил, что это я сам сделал? Нет, — извиняющимся тоном пробормотал он. — Неужели ты думаешь, у меня было время заниматься такими пустяками, когда моя армия разваливалась у меня на глазах? А теперь, Абдулла, ступай и купи все, что нужно для праздничного пира, который мы устроим через десять дней. Сласти для гостей и обязательно что-нибудь в подарок матери и дочери от ее… (он неловко откашлялся — намеренно?) от ее отца. Все, что тебе понравится. Я не знаю… Что-нибудь на свой вкус.
Я стоял и молча смотрел на маленьких деревянных куколок у себя в руке, не отваживаясь встретиться с ним взглядом. Мне хотелось задать ему вопрос… однако язык отказывался мне повиноваться. Но Соколли-паша сам обо всем догадался.
— Это от Хранителя Королевского Коня. Замечательный молодой человек! Он со своим полком свалился русским точно снег на голову, вырезал их всех до единого, а потом, естественно, полюбопытствовал, что у них в седельных сумках. Это, сказал он, его часть трофеев. И добавил, что будет крайне признателен, если я передам их своему ребенку вместе с его наилучшими пожеланиями.
После чего глаза его вонзились в меня, точно стальные буравчики, так что я счел за благо как можно скорее откланяться.
Еще толком не придя в себя, я бегом помчался в гарем, где увидел свою госпожу. Прижав к груди дочь, она спала сладким сном. Стараясь не дышать, я поставил деревянных куколок рядом с ними так, чтобы они первым делом увидели их, когда откроют глаза. Потом тихонько устроился на другом диване и молча любовался, как они спят. Прижавшиеся друг к другу мать и дочь на удивление были похожи на деревянные куколки, стоящие у их изголовья — еще один беглый отблеск вечности, позлащенный лучами солнца. Потому что хотя лица обеих и носили еще отпечаток усталости, а темные волосы прилипли колечками к влажному от пота лбу, но аура умиротворения, окружавшая их, чувствовалась даже на расстоянии. Они казались утомленными ангелами, решившими немного передохнуть от земных дел.
Непонятное, до сих пор не изведанное чувство вдруг всколыхнулось в моей груди. «Подумать только, — пронеслось у меня в голове, — что из всех людей, которых когда-нибудь суждено узнать этому еще несмышленому ребенку, я один могу вот сидеть и смотреть, как они спят!»
Хвала Аллаху, Повелителю Вселенной!
Сострадательному, Милосердному!
Слова Суры сами собой слетели с моих губ. И, сам того не сознавая, я возблагодарил Всевышнего — как бы его ни называли — за все, что послала мне судьба.

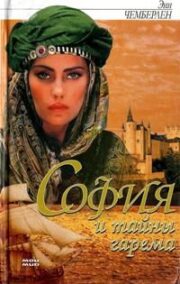
"София и тайны гарема" отзывы
Отзывы читателей о книге "София и тайны гарема". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "София и тайны гарема" друзьям в соцсетях.