— В вятичах. Я с князем Ходияром давно знаюсь. Да не хочу, чтобы сестра моя попала, как зернышко между жерновами, пока они стол отцовский в Дедославле не поделили. Назовется князем — приедет за невестой.
— Вот и я десять лет ждала, пока мой жених князем назовется, — вдруг призналась Елисава в порыве откровенности, удивившем ее саму. — Харальд ведь десять… даже больше, одиннадцать лет назад ко мне посватался, я еще девчонкой была. И уехал славы и богатства искать. Все нашел… и славу, и добра нажил. Только совесть, видно, где-то за морями обронил, а теперь и подобрал бы — да не ведает где.
В ее словах звучала горечь. Всеслав заставил Елисаву по-новому взглянуть на события в прошлом, и они только обострили ее досаду на события нынешние. Харальд обманывал их еще там, в Киеве; сначала уговорил Ярослава заняться переносом и крещением княжьих костей, а потом своим колдовством чуть не поднял мертвецов на глазах у всего народа… Хотел приворожить и обесчестить ее, Елисаву… А теперь решился на открытый разбой и грабеж! Ей было досадно и стыдно, что она могла так обмануться, так увлечься Харальдом, столько думать о нем… И что он оказался… таким. Думала она о нем и сейчас, и мысли эти были нерадостными.
— Не грусти, сестра! — Всеслав ласково обнял ее. Он был невысок, и они оказались почти одного роста. — И твое время веселья придет, и ты расцветешь в любви и довольстве, распустишься, как березка по весне.
Он поцеловал ее в лоб, но Елисава высвободилась из его рук и ушла с крыльца в горницы. Ей не хотелось, чтобы кто-то видел слезы, выступившие у нее на глазах. Сколько бы ей ни толковали про долг и достоинство княжьей дочери, она тоже хотела счастья, как всякая обычная девушка.
Глава 12
На следующее утро полоцкая рать выступила в поход.
Молигнева и Грядислава даже обняли Елисаву на прощание, пожелали ей легкой дороги и удачи в новой жизни.
— Да будет с тобой Лада-матушка, да укроет тебя Макошь покровом своим, — желала ей княгиня, и Елисава видела в ее глазах доброту и сочувствие. Полоцкая княгиня будто знала, что Елисаве предстоят нелегкие испытания, и боялась за нее.
У Грядиши был хмурый вид. На прощание она подарила киевской сестре оберег: плотно свернутый кусочек бересты, внутрь которого было вложено лебединое перо, а сверху нацарапано изображение лебедя. Все вместе было обмотано тонким красным ремешком.
— Сама сделала, — буркнула Грядислава. — Я умею, ты не думай. Меня учили. Поможет. Охранит тебя силой Лады, отведет взор Марены раньше срока. Не потеряй, смотри.
И хотя это был, несомненно, языческий амулет, Елисава поблагодарила и спрятала его. Может, это и грех… но в способности полоцких родичей она твердо верила и понимала, что подарками их пренебрегать не следовало. Сама она в благодарность за гостеприимство подарила княгине, как и собиралась, косяк двухцветного византийского самита с золотистыми цветами на синей земле.
Всеслав вел с собой более трех сотен человек: полочан и варягов из своей дружины, полоцких бояр с их воями. В основном двигались на ладьях, но была и конная дружина, человек с полсотни, — эти шли берегом: сперва немного вверх по Западной Двине, потом вверх по ее притоку Каспле, текущему на север. Так добрались до городка под названием Еменец — это был последний, самый дальний рубеж полоцких владений перед новгородской землей. В Еменце переночевали, а Елисава со своими женщинами провела там весь день и следующую ночь, пока ладьи по волоку переправляли на реку Ловать.
Наутро тронулись дальше, уже по Ловати, то есть по новгородской земле. Здесь, на еще одном ключевом отрезке пути «из варяг в греки», села и поселочки попадались довольно часто. Первым городком были Луки, занимавшие оба берега: на высокой стороне располагался детинец, с несколькими улочками посада, а на острове, посреди реки, и на противоположном низком берегу в беспорядке были разбросаны дворы, усадебки, отдельные избушки. Три части города так и назывались: Детинец, Дятловка — что на острове — и Заречье. Елисава знала, как ее отец ценит этот город и почему сам обновил детинец, выстроил новые прочные стены из деревянных срубов, засыпанных землей. Если Ловать была прямой дорогой к Ильмень-озеру и Новгороду, то Луки были на ней воротами, и в них оседало немало серебра, протекающего великим путем из стран Востока на Север.
Для торговых гостей у подножия детинца стояли несколько гостиных дворов. Береговая полоса была тесно заполнена ладьями, лодками, долблеными челноками. При виде целого войска, пришедшего по Каспле, народ насторожился, но особого испуга не замечалось.
Когда ладьи пристали, их уже ждал местный воевода с дружиной, поставленный князем Ярославом собирать мыто и обеспечивать безопасность торгового пути. В обязанности его дружины входило сопровождать торговые караваны через волок, где существовала опасность разбоя.
— Что за гости к нам прибыли? — Воевода Волога стоял впереди, расставив ноги и уперев руки в бока. За поясом его торчал боевой топор, рядом отрок держал щит, и дружина его была вооружена легко, на всякий случай.
— Это я, князь полоцкий Всеслав Брячиславич! — Всеслав приветливо махнул рукой с передней ладьи. — Со мной дружина моя и сестра, дочь брата[28] моего Ярослава Киевского.
— Да разве Брячислав Полоцкий помер? — Воевода в изумлении перекрестился.
— Жив батюшка, даст бог, еще поднимется, — успокоил его Всеслав. — Да по телесной немощи сам в стремя встать не может, мне поручил дружину вести.
— Ну, милости просим, княже Всеславе. — Воевода повел рукой. — Я уж знал, что вы приедете. Князь Святослав Ярославич проезжал, так он говорил, что ты следом будешь. Я для вас гостевой двор держу. Да только не уместитесь там все, уж больно дружина у тебя велика. Ну, да как-нибудь…
— В обиде не буду! — Всеслав спрыгнул на песок и улыбнулся. — Главное, воевода, Ярославну устрой получше. Ей с дороги отдохнуть надо.
— Ярославну устроим. — Волога низко поклонился Елисаве, которую сам Всеслав на руках перенес с ладьи на берег. — Милости прошу ко мне на двор. Мы тебя, дева, не ждали, князь Святослав сказал, что ты в Полотеске дожидаться будешь, а не то горницу бы приготовили. Ну, ничего, моя хозяйка все устроит.
Половину полоцкой дружины воевода отослал на гостевой двор, стоявший на берегу у подножия детинца, остальных вместе с Всеславом и Елисавой проводил в город, к себе. Его жена, Зимятовна, лет на десять моложе мужа, говорливая женщина, обомлела от такой чести, но живо принялась за дело, перетаскивая разные пожитки, и скоро Елисава со своими женщинами уже устраивалась в горнице воеводского терема. За дни путешествия княжна, попривыкшая жить в чужих домах, почти забыла родной терем, и ей уже казалось, что так теперь будет всегда. Здесь было чисто, довольно просторно — и, слава Богу.
— Бродим, бродим… — бормотала Соломка, выискивая в коробе чистую рубашку, чтобы идти в баню. — Как то племя… ну, отец Никодим рассказывал… что сорок лет в лесу бродили, а нигде приклонить голову не могли.
— Иудеи, — напомнила Елисава. — Только они не по лесу бродили, а по пустыне.[29]
— Ну, я и говорю.
— Эта пустыня — не дебри, а такое поле преогромное, где один песок, и ни воды, ни травы не растет. Куда похуже любых дебрей.
— Вот ведь Бог наказал!
Зимятовна бегала вокруг и суетилась, ее три дочери, от двенадцати до пятнадцати лет отроду, тоже старались чем-нибудь помочь, услужить киевской княжне, разглядывали ее с таким изумлением, будто к ним явилась звезда с неба. За ужином воевода расспрашивал о Киеве, но только после того, как рассказал Всеславу о новостях из Ладоги и Новгорода.
— Слышали мы, незадача такая! — говорил Волога. — Князя-то Владимира в Новгороде нету. Ушел он по весне на емь, мы так слышали. Что-то не заладилось у них, купцов наших, меховщиков, слышно, обижали, вот он и пошел. Попов двух к ним засылали — одного побили и прогнали нехристи, второй без вести сгинул. Купцы болтают, что принесли его в жертву богам ихним лесным, да бог их весть.
— Тогда отдыхать некогда, завтра поутру дальше двинемся, — решил Всеслав. — Ступайте спать пораньше, сестра. Как рассветет, так и отправимся.
Елисава последовала его совету и ушла наверх, едва начало темнеть. Сам Всеслав, однако, не торопился и, судя по шуму, долетавшему из гридницы, еще долго сидел с воеводой, вспоминая разные походы, свои и чужие.
— Что они там пьют-то? — ворчала Соломка. Крики снизу не давали ей спать, и она все ворочалась рядом с Елисавой. — Если меды, то никуда мы завтра на заре не двинемся. К полудню витязи наши опомнятся, и то головы трещать будут.
Но когда женщины проснулись, до рассвета оставалось еще очень далеко. Была глухая ночь, а какая-то женщина стояла на коленях возле лежанки, теребила Соломку, лежавшую с краю, причитала и восклицала:
— Ярославна, проснись! Да что же это такое делается, чуры наши и пращуры! Матушка Макошь! Разбой, Ярославна! Хоть ты заступись! Ты ведь сестра ему, может, тебя послушает! Не погубите, смилуйтесь! Да мы же разве когда… мы князю Ярославу слуги верные — и Волога мой, и батюшка Зимята, и дед мой Дерило с князем Владимиром Святославичем в походы ходил, на ятвягов еще…
— При чем тут ятвяги! — Соломка села, оправляя волосы. — Ты кто?
— Зимятовна я, Вологина жена!
— Ах, да! Ты чего гундосишь среди ночи? Лисава, проснись! Ятвяги, что ли, напали? Или терем горит?
— Да разбойник этот, князь полоцкий! Оборотень этот, чтоб ему на свой нож чародейный напороться! Совсем убил, разорил, сиротой меня оставил… — Зимятовна припала головой на край лежанки и разрыдалась.
— Убил? — Елисава терла глаза, пытаясь стряхнуть сон, но в горнице было почти темно, только луна слегка заглядывала в затянутое слюдой окошко, и она не была уверена, что это все ей не снится. — Всеслав? Спьяну подрались, что ли? Да говори ты толком, не рыдай, не понимаю я ничего!
— Эллисив! — Дверь открылась, в горницу заглянул Ивар. Позади него кто-то держал факел, внутрь проникло несколько отблесков света. — Ты спишь? Извини. Но ты должна встать.
— Что случилось? — Отпихнув Соломку, Елисава вылезла из постели и подошла к двери, стараясь не наступить на Будениху и Кресавку.
— Висислейв конунг захватил этот город.
— Что? — Елисава распахнула дверь.
В верхних сенях стояли Ивар и Альв, а на лестнице — еще несколько темных фигур.
— Если я правильно понял, он захватил здешнего ярла и его дружину, которые были пьяны. Его люди — те, что оставались снаружи, — вошли в город и опять закрыли ворота. Я мало что понял. Но будет хорошо, если ты выяснишь, что происходит.
— Это правда? — Елисава обернулась к Зимятовне.
Соломка уже усадила воеводину жену на лежанку, и та закивала, продолжая плакать.
— Как есть захватил… — бормотала она, — из постели вытащили… Воеводу увели… Все при оружии… Полочане… оборотень он, нет ему веры… Как есть оборотень, чтобы его Мара поглотила!
— Огонь зажгите и одеваться подайте! — распорядилась Елисава.
Происходило что-то важное, и ей не терпелось выяснить, что именно. Похоже, что-то неприятное. Внутри похолодело: а не напрасно ли она доверилась Всеславу Полоцкому? И как вообще вышло, что она ему доверилась, хотя прекрасно знала, что он колдун, оборотень и верить ему никак нельзя? Но почему нельзя — ведь у его отца, князя Брячислава, заключен договор с Ярославом, чтобы им «быть во всем заедино»…
— Вот заворожил глазами своими! — бормотала Соломка, торопливо укладывая черные косы вокруг головы. — А сам-то…
— Мы ворота открыли, как гостей дорогих приняли, — всхлипывала Зимятовна. — Ты, Ярославна… Мы князю Ярославу слуги верные… И отец мой, и дед… И брат мой у Владимира Ярославича в ближней дружине, возле самого стремени ходит, и ничего, кроме верной службы, мы…
В это время на лестнице послышались голоса и топот. Елисава поспешно метнулась туда, не дав Буденихе хотя бы пригладить ей косу и повязать ленту. Альв с факелом еще был на площадке, и она сразу увидела внизу полоцкого воеводу Радогу. Двоюродный брат Всеслава по матери, сын того самого загадочного кормильца, был светловолос, рыжебород, а его белая кожа летом была вечно красной от солнца, но, по крайней мере, в нем не ощущалось ничего загадочного.
— Воевода Радогость! — строго окликнула его Елисава, встав на площадке и сложив руки на груди. — Что за переполох среди ночи? Что вы делаете?
— Кто там с тобой? — Держась за перила, Радога остановился на середине лестницы и смотрел на нее снизу вверх. За его спиной стояли еще человек пять гридей, и при свете факелов в их руках Елисава видела холодный блеск обнаженных клинков. Ее переполняло чувство тревоги, но она старалась выглядеть невозмутимой и строгой. В жилах княжны текла королевская кровь многих поколений ее предков, которым не раз случалось бывать в переделках, и она обязывала не терять головы.

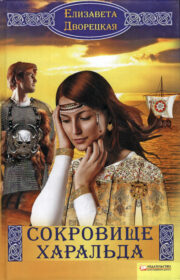
"Сокровище Харальда" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сокровище Харальда". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сокровище Харальда" друзьям в соцсетях.