Поначалу от неожиданности я оцепенела и растерялась, но потом поцеловала его в ответ, пылко и отчаянно. Он завозился с моим корсетом.
— Я должен вам сказать… Я хочу вас… больше, чем хотел кого-либо, — бормотал он в перерывах между страстными поцелуями. — Простите меня. Я поступаю дурно?
— Да, — ответила я, помогая ему справиться с застежками и безжалостно разрывая кружева. — Очень дурно. — Я прижала его голову к своей груди.
Вот так, по собственной воле и с большим желанием, я подарила ему свое целомудрие — по мнению окружающих, единственное мое сокровище. Но я ни о чем не жалела. Еще никогда я не чувствовала так остро, что живу, как в ту ночь, когда на моих глазах умер человек, а сама я впервые занималась любовью.
Сущий пустяк
Лувр, Париж, Франция — март 1674 года
Страсть, которую мы оба испытывали к изящной словесности, и неуемное желание писать сблизили меня с Мишелем, и они же были предметом раздора между нами.
Мишель хотел стать великим драматургом, как и его наставник Мольер. Он был полон честолюбивых планов и презрительно именовал то, что выходило из-под моего пера, «фривольными женскими глупостями».
— Все эти твои переодевания, дуэли и похищения, — заявил он однажды, примерно через год после начала нашего романа, небрежно швырнув на стол пачку листов, исписанных моим почерком. — Эти твои отчаянные любовные аферы. И после этого ты хочешь, чтобы я воспринимал тебя всерьез?
— Мне нравятся переодевания и дуэли. — Я резко выпрямилась, сидя на кровати. — Уж, во всяком случае, они лучше тех скучных пьес, которые пишешь ты. По крайней мере в моих историях хоть что-то да происходит.
— По крайней мере в моих пьесах есть идея и смысл.
— Они есть и в моих рассказах. И то, что они не навевают тоску, вовсе не означает, что они — плохие.
— Ну, и о чем они? О любви? — Он выразительно хлопнул в ладоши, поднеся их к самому уху, и жеманно затрепетал ресницами.
— Да, о любви. А что плохого в том, что я пишу о любви? Все хотят любви, и все о ней мечтают.
— Неужели в мире мало любовных романов, чтобы и дальше множить их число?
— Неужели в мире мало горя и страданий?
Мишель презрительно фыркнул.
— Что плохого в том, чтобы хотеть быть счастливым?
— Это приторно и сентиментально.
— Приторно? Я вовсе не приторная. — Я так разозлилась, что запустила в его голову туфелькой.
Он ловко поймал ее и небрежно отшвырнул в угол.
— Согласен. Тебя трудно назвать милой. В тебе слишком много язвительности и перца. А вот сентиментальность… ты определенно сентиментальна. — С этими слова он двинулся на меня, расстегивая сюртук.
— Я ничуть не сентиментальна. — Сняв с ноги вторую туфельку, я метнула ее в него, а он опять поймал и отбросил в другой угол, швырнул свой сюртук на стул и принялся расстегивать манжеты.
— Разве не ты плачешь в конце пьесы? И вздыхаешь, когда герой целует героиню? — Мишель рассмеялся и принялся развязывать тесемки у ворота.
— Это вовсе не сентиментальность. Это всего лишь означает, что у меня есть сердце.
Когда он стащил с себя через голову рубашку и швырнул ее на пол, я воскликнула:
— Не надо. Мы спорим, а не занимаемся любовью.
Мишель опрокинул меня на постель.
— Нет, — запротестовала я, приподнимаясь на локтях. — Я с тобой разговариваю!
— Ты болтаешь слишком много, — заявил он и навалился на меня всем телом, прижимая к постели и обрывая мои возражения поцелуем.
И я сдалась. Я была настолько очарована этой новой любовной игрой, что не могла противиться. С ним я чувствовала себя самой прекрасной женщиной в мире. Нам не было нужды разговаривать. Стоило ему лишь сардонически выгнуть бровь, и я понимала, что мы с ним разделим тайное, но оттого не менее восхитительное наслаждение.
Для себя я уже давно решила, что никогда не выйду замуж. Мне представлялось, что замужество — это всего лишь завуалированный способ продать женщину в рабство. Женщина не могла выбирать, за кого ей выходить, не смела протестовать, если муж бил ее смертным боем. Подобный порядок вещей приводил меня в бешенство.
Увы, но наше общество жестоко обходилось с женщинами, посмевшими выразить желание жить собственной жизнью, отгородить себе уголок мира, в котором они могли быть хозяйками, о чем много лет назад говорила моей матери кузина короля, Анна-Мария-Луиза.
Бедная моя мама. Стоило мне подумать о ней, как на глаза наворачивались жгучие слезы. Она умерла в монастыре, мы так больше и не свиделись с нею. Мари унаследовала ее титул и замок. Ее выдали замуж за человека, которого она до той поры и в глаза не видела, маркиза де Теобона, который первым делом вырубил целую дубовую рощу, чтобы расплатиться с карточными долгами. С тех пор мы с нею не встречались, хотя и регулярно обменивались осторожными письмами, приучившись читать между строк.
Свой собственный уголок мира я нашла в салонах Парижа. Здесь правили бал женщины, а мужчины падали к их ногам. Мы создавали тайные общества с паролями и секретными рукопожатиями, в которых могли обсуждать политику и религию, не боясь, что на нас донесут шпионы короля. В салонах я встречала умудренных опытом и остроумных женщин, многие из которых сами были писательницами, и именно здесь расцвело мое тайное желание посвятить себя писательскому творчеству. Из-под моего пера одно за другим выходили письма, поэмы, сказки и скандальные любовные истории. Я мечтала о том, что когда-нибудь начну печататься, подобно Марии-Мадлен де Лафайет[142] или Мадлен де Скюдери.
Мой роман с Мишелем Бароном развивался стремительно. В нем были взлеты и падения, веселье и смех, грусть и горькие слезы. Реальной пользы я принести ему не могла, поскольку была бедна, как церковная мышь, зато я заставляла его смеяться и окружала нежностью, чем он бывал очень тронут. У него были и другие, куда более красивые, любовницы, и богатые патронессы, ожидавшие, что он будет танцевать перед ними на задних лапках, но каким-то образом мы неизменно умудрялись уединиться в укромном уголке гостиной какой-нибудь состоятельной дамы, смеясь над особенно забавным стихотворением.
Я начала втайне мечтать о замужестве. Я воображала, как проведу жизнь в писательских трудах, спорах, занятиях любовью и походах в театр. Мне более не будет нужды целыми днями прислуживать королеве Марии-Терезии, играть в карты, расчесывать ее дурно пахнущих собачек и деланно смеяться неуклюжим ужимкам ее карликов. Мне больше не придется улыбаться людям, которые мне неприятны, льстить тем, кто полон злобы, и сплетничать о тех, кто мне неинтересен. По утрам мы с Мишелем будет валяться в постели, пить горячий шоколад и читать, а потом целый день будем писать. Я — сочинять рассказы о любви, магии и приключениях, которые произведут фурор в Европе. Он — писать блестящие пьесы, которые заставят аудиторию плакать и привлекут к нашим дверям вереницы экипажей богатых покровительниц. По вечерам мы будем ужинать в ресторанах, посещать салоны или ходить в театр. Мы будем танцевать ночи напролет в Менильмонтане, а потом — заниматься любовью и засыпать в объятиях друг друга.
Однажды вечером я заговорила с ним об этом, притворившись, будто эта мысль только что пришла мне в голову, и я не придаю ей особого значения. Мы только что закончили заниматься любовью, и я прижималась к его боку, а он небрежно обнимал меня за плечи. Оба мы были обнажены, а на голове у Мишеля красовался его ночной колпак, который он носил скатанным в кармане пальто после того, как однажды шутливо пожаловался на холод в моей комнате. Он с удивлением взглянул на меня.
— Пожениться? Но, ради всего святого, зачем?
Я улыбнулась и сделала небрежный жест рукой.
— Ну, не знаю… например, тебе не придется тайком пробираться ко мне в спальню по ночам, пряча в кармане скомканный ночной колпак.
— Он мне не мешает, — ответил Мишель. — И места занимает совсем немного.
— И тебе не надо будет ускользать от меня на рассвете.
— Ну, если это — цена, которую я должен заплатить за возможность провести с тобой ночь…
— Но если бы мы поженились, тебе вообще не пришлось бы прятаться. Мы могли бы купить небольшой славный домик в Париже…
— Каким же это образом, хотел бы я знать?
— Ну, не знаю. Если ты сочинишь пьесу, которая будет иметь бешеный успех… а я напишу роман, который станет популярным…
— Если бы да кабы, да во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород, — кисло отозвался он, убирая руки и складывая их на груди.
— Мы найдем покровителя.
Он фыркнул.
— Мне и сейчас трудно найти покровителя, когда я не обременен женой.
Я села, прикрывшись простыней.
— Я не стану для тебя обузой.
— Не говори глупостей, Шарлотта-Роза, — отрезал он. — Женщины всегда превращаются в обузу. Ты захочешь, чтобы я весь день сидел дома с тобой, когда мне понадобится уйти, чтобы осчастливить своих покровительниц. Потом тебе понадобится крикливый ребенок, женщины вечно хотят детей…
— Не понадобится, — горячо возразила я, хотя это была правда. Иногда я воображала, что в своем домике грез держу на руках розовощекого малыша, который смеется и тянет ко мне пухлые ручонки.
— Рано или поздно моя труппа обязательно отправится на гастроли в провинцию. Ты даже представить себе не можешь, как это тяжело. Ты не выдержишь тягот кочевой жизни.
— Выдержу. — На глаза у меня навернулись слезы, и я сжала кулаки и стиснула зубы, чтобы не расплакаться.
— Ты сможешь убить метлой крысу, потом освежевать ее и кинуть в кастрюлю, чтобы сварить суп на обед?
Я молча смотрела на него, закусив губу.
— Ты способна прошагать двадцать миль под дождем, а потом заночевать в придорожной канаве?
— Если надо, то смогу, — храбро ответила я.
Мишель рассмеялся.
— А вот я так не думаю, герцогиня.
Раньше мне нравилось, когда он называл меня «герцогиней», шутливо намекая на мое благородное происхождение, но сейчас это прозвище прозвучало оскорбительно.
— Я… Я вынесу… и дождь… и крыс… если мы будем вместе. — Голос мой явственно задрожал.
Мишель презрительно фыркнул.
— А какой толк от тебя на гастролях? Ты не можешь петь, не умеешь играть…
— Я научусь.
— Чушь!
— Научусь! Рассказывать истории — то же самое, что играть на сцене. Ты должен придумать разных персонажей, завладеть вниманием аудитории, покорить их своим голосом, ты должен…
— Ты не умеешь играть на сцене, Шарлотта-Роза.
— Но я могу научиться! Мои истории заставляют тебя смеяться. Почему же я не смогу рассмешить другую аудиторию?
— Этого недостаточно.
— Но почему? Что ты имеешь в виду?
— Для того, чтобы добиться успеха на сцене, недостаточно быть смешной и умной, Шарлотта-Роза. Ты должна быть еще и красивой.
Возражения замерли у меня на губах. Волна унижения накрыла меня с головой, огнем обжигая кожу.
Мишель встал с постели и принялся одеваться.
— Мне очень жаль, герцогиня. Я не хотел сделать тебе больно или оскорбить. Но ведь это правда. Если я когда-нибудь соберусь жениться, то или на богатой, или на красивой. Лучше всего, чтобы моя избранница сочетала в себе оба эти качества. А ты, к несчастью, не обладаешь ни одним из них.
Уязвленная до глубины души, я вспомнила одно из любимых утверждений своего опекуна. «У нищей красоты больше любовников, чем мужей», — говаривал маркиз де Малевриер. А что же делать, если ты бедна и некрасива? Я вдруг ясно увидела свое будущее, полное скуки, насмешек и одиночества.
Мишель надел башмаки и направился к двери.
— Ты собираешься расхаживать по дворцу в ночном колпаке? — ледяным тоном поинтересовалась я. — Тебя поднимут на смех.
Он метнул на меня злобный взгляд, сорвал с головы колпак и швырнул его наземь. Затем, схватив парик, он кое-как напялил его на голову и выскочил вон, с грохотом захлопнув за собой дверь.
Я свернулась клубочком, зарылась лицом в подушку и заплакала.
На следующий день мне нанесла визит Франсуаза Скаррон, одна моя знакомая, которая лишь недавно появилась при дворе, но уже стала объектом самого пристального внимания, поскольку король явно искал ее общества. При этом она была немолода. Она не была блондинкой. Она не обладала роскошной фигурой. Она даже не отличалась особой жизнерадостностью. У Франсуазы Скаррон была оливковая кожа и темные глаза, хотя, уверена, подобно мне, она втайне мечтала о копне золотистых кудряшек и глазах цвета небесной лазури, как у любовницы короля Атенаис.

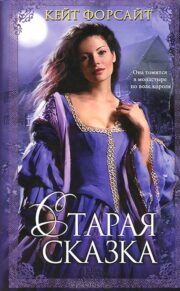
"Старая сказка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Старая сказка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Старая сказка" друзьям в соцсетях.