— Интересно, живут ли они здесь по-прежнему. Может, они уже умерли или переехали…
— Скоро мы все узнаем, — успокоил ее Лучо.
Маргерита часто мечтала о том, как вернется домой и увидит узкий тенистый переулок, окно, за которым лежит пещера Аладдина, полная диковинных масок, сверкающих серебром и золотом, украшенных разноцветными перьями. Она представляла себе, как распахнет дверь и крикнет:
— Я вернулась! — и родители выбегут ей навстречу, чтобы обнять.
Все вышло именно так, как она и представляла. Хотя родители не выбежали, а медленно вышли к ней, поскольку уже успели состариться. А их отягощенный скорбью рассудок не сразу принял то, что их дочь вернулась домой. Зато потом, когда они прижали ее к сердцу, то объятия их получились такими же сильными, радостными и любящими, как она всегда мечтала.
Палаццо Питти, Флоренция, Италия — октябрь 1600 года
Шестого октября 1600 года во Флоренции начались праздничные мероприятия по случаю свадьбы Генриха IV Французского и Марии де Медичи, младшей сестры Великого герцога Фердинандо I.
Измученный создатель, Джакопо Пери, именовал свое детище просто — «опера», что означает «труды», и она стала новейшим увеселением, сочетающим в себе музыку, песни, танцы и актерскую игру. Представление в Палаццо Питти во Флоренции должно было показать всему миру роскошь и великолепие флорентийского двора и лишний раз подтвердить исключительный уровень здешних певцов, танцоров, актеров и музыкантов. В основу своего произведения Пери положил историю Орфея и Эвридики, но изменил конец, сделав его счастливым, дабы развлечение гармонировало с брачной церемонией. Генрих IV Французский один раз уже женился против своей воли — на безумной Марго. Эта свадьба стала предвестником жуткой резни во время Варфоломеевской ночи. Посему нельзя было допустить, чтобы тень прошлого омрачила его вторую свадьбу.
Маргерита должна была играть Прозерпину, богиню весны. Это была великая честь. Еще одной — и последней — женщиной в труппе была дочь самого Пери, Франческа, которая исполняла главную роль. Всех остальных героинь оперы с успехом заменяли или кастраты, или единственный мальчишка с усеянным прыщами лицом, обладающий чудным сопрано. На кастратов надели широкие платья, завитые парики, а мальчишка разгуливал на высоченных каблуках, чтобы не слишком уступать ростом остальным персонажам. Магли при мудром наставничестве Маргериты добился столь впечатляющих успехов, что ему поручили роль Трагедии. На сцене он возвышался надо всеми, и на его печальном лице была нарисована одинокая слеза.
По настоянию своего мужа, Лучо, Маргерита оставила огненно-рыжие волосы распущенными и нарядилась в роскошное платье серебристо-зеленого шелка, расшитое цветами. В ожидании своего выхода она стояла за кулисами, сжимая вспотевшие от волнения ладони и чувствуя, как холодеет у нее в животе. Не выдержав, она выглянула из-за занавеса и улыбнулась, завидев в первом ряду Лучо с близнецами на коленях. По обе стороны от него сидели родители Маргериты в самых лучших своих нарядах, а совсем неподалеку разместились Великий герцог с женой, высокомерной Кристиной Лоррейнской, король Франции с новобрачной и бесчисленные представители знати.
Маргерита услышала первые ноты вступления. Она глубоко вздохнула, расправила плечи и шагнула на сцену, позволяя своему голосу взлететь вслед за музыкой. Лучо в восхищении смотрел на нее, и глаза его светились любовью и нежностью. Она улыбнулась ему в ответ.
«Сбылась моя мечта, — подумала она, — я пою перед королями и королевами. Я могу путешествовать по всему миру, посмотреть на слонов и верблюдов, если мне того захочется, подняться на самые высокие горы и потрогать небо, и увидеть океаны, водопадом обрывающиеся за край земли.
Меня зовут Маргерита.
Я — любима.
И свободна».
Постлюдия
…Я искупила свою вину И голову свою несу легко, Словно пылинку, Как голодная девушка Среди кустов терновника, Чьи губы и кончики пальцев Окрашены соком ягод. Долгие годы я мечтала об этом: О зеленых, смеющихся Руках старых деревьев, Простертых надо мной. И тень моя теряется среди них.
Вкус меда
Замок Шато де Казенев, Гасконь, Франция — июнь 1662 года
Я всегда любила поболтать, а уж сказки были моей страстью.
— У тебя мед на язычке, ma fille, — сказала однажды мама. — Родись ты сто лет назад, то могла бы стать трубадуром.
— Девочки не могут стать трубадурами, — заявила Мари, презрительно задрав нос.
— Могут, и еще как, — возразила мать. — Некоторые известные трубадуры были как раз женщинами. Их называли «trobairitiz»,[195] и они написали много прекрасных песен и поэм, дошедших до наших дней. Моя мать напевала мне одну, сочиненную графиней де Диа, а я пела ее вам, когда вы были совсем еще маленькими. Помните?
Мы с сестрой дружно покачали головами.
Мать негромко запела:
— Ты даришь радость и смех тысячам тех, кто только что плакал.
— Да-да, что-то припоминаю, — с изумлением протянула я, когда в памяти моей всплыли смутные воспоминания детства.
— Трубадуры странствовали от одного королевского двора к другому, они рассказывали истории и пели песни. Часто они передавали и новости, которые в смутные времена облекали в форму легенд и народных сказок. Иногда они навсегда оставались при дворе какого-нибудь короля, но остальные трубадуры доходили до самого края света.
— Вот это занятие мне по душе, — с непоколебимой решимостью заявила я. — Я стану… как называется женщина-трубадур?
— Trobairitiz, — сказала мать. — Это на окситанском диалекте.
— Trobairitiz, — медленно повторила я, пробуя незнакомое слово на вкус.
— Но ведь трубадуров больше нет, правда, мама? — поинтересовалась Мари. — А если бы и были, то девочкам не разрешали бы ими становиться.
— Вероятнее всего, нет, — с грустью согласилась мать.
— Все равно я стану трубадуром, — решительно заявила я.
Мать улыбнулась и ласково взъерошила мне волосы.
— Уверена, так оно и будет, ma fifille, умница ты моя. В этом мире можно добиться чего угодно, если только не терять мужества и присутствия духа.
Аббатство Жерси-ан-Брие, Франция — апрель 1697 года
Я лежала на тощем жестком тюфяке, глядя на высокие каменные арки над головой, едва видимые в полумраке ночи. Глаза щипало от слез, а в горле застрял комок, словно кусок непрожеванного яблока. В детстве я думала, что передо мной открыты все пути, меня ждет мир бесконечных возможностей с замками и горными вершинами, увенчанными снежными шапками, цветущими лугами и зелеными долинами, каскадами водопадов и глубокими потайными ущельями, на дне которых покоятся кости великанов. А сейчас моя жизнь превратилась в унылое и серое существование без цели и смысла. Над нею властвовали колокольный звон, молитвенное пение и тяжелые двери, обитые железом, с замками, запертыми на три оборота ключа. Я попала в клетку, из которой не было выхода.
Я думала о той странной сказке, которую рассказала мне сестра Серафина. О маленькой девочке, запертой в башне без дверей и лестниц. Она пела, и песня ее была услышана. Она лишила покоя случайного слушателя в лесу. И он пришел и помог ей бежать. Но я не умела петь. Кто мог услышать меня здесь, в тюрьме, кроме других заключенных? Только Бог.
Я глубоко вздохнула и прижала пальцы к мокрым глазам, а потом, отняв кончики, поняла, что у меня кружится голова. Я заморгала и запрокинула голову. Надо мной луч рассветного солнца проник в комнату сквозь сводчатое окно в стене за спиной. Перед тем как лечь спать вчера вечером, я постаралась распахнуть окно как можно шире в надежде проветрить помещение и увидеть звезды. Но все мои усилия оказались напрасны — окно приоткрылось на несколько дюймов, образовав щелочку, в которую я даже не смогла просунуть руку. Тем не менее она оказалась достаточно широкой, чтобы в нее заглянуло утреннее солнце, и вот в луче золотистого света медленно затанцевали три пчелы.
Я замерла, чувствуя, как меня пробирает доселе незнакомая дрожь, отчего волосы на затылке и на руках встали дыбом. Пчелы переливались искорками, подобно драгоценным камням, янтарно-оранжевые с черными полосками, и крылышки их вспыхивали блестками солнечного огня. Глаза их были огромными, темными и блестящими. Повиснув на мгновение над моей головой, они, пожужжав от избытка жизненных сил, по очереди поднялись к окну и вылетели наружу.
«Они полетели в сад», — подумала я. Не раздумывая, я опустила ноги на пол, подхватила тяжелую накидку, сабо и босиком, потихоньку, зашагала по узкому проходу между натянутыми простынями. До меня донесся чей-то вздох и шуршание соломы, когда одна из монахинь заворочалась во сне. Каменные плиты под ногами отдавали таким холодом, что мне казалось, будто я иду по лезвию ножа.
Проскользнув по спящему монастырю, я подошла к двери, у которой на мгновение задержалась, боясь, что она будет заперта, но все-таки повернула ручку. Дверь открылась, и я шагнула через порог в серые рассветные сумерки. Над темными стенами монастыря нежнейшими пастельными тонами голубело небо. Сводчатые окна спальни отражали солнечные лучи, и воздух благоухал цветами яблочного дерева и фиалок. Я вдыхала его полной грудью, вспоминая мать. «У тебя мед на язычке…» — повторила я мамины слова.
И вдруг сердце мое учащенно забилось. По коже пробежали мурашки, и я почувствовала, как все тело, от самых пяток до кончиков волос, откликается на глухой вибрирующий гул, который исходил, казалось, из-под земли, словно какой-то великан застучал в исполинский барабан. Это было страшно и возбуждающе одновременно. Что-то происходило, вот только я не понимала, что именно. Гул стал глубже. А потом я увидела странное темное облако, похожее на цветочный ураган, в дальнем конце сада. В воздухе пьяно кружили пчелы. Их были сотни и тысячи.
В тот миг я ощутила себя невероятно живой и безумно уязвимой. Кончики пальцев отозвались нервным покалыванием, под ложечкой засосало, сердце запело. Еще несколько секунд я стояла в нерешительности, а потом повернулась и побежала обратно в монастырь. Я знала, где расположена келья сестры Серафины; я видела, как она возвращалась туда после всенощной молитвы. Поначалу я тихонько поскреблась в дверь мизинцем, но потом, вспомнив, что нахожусь не при дворе, отбила быструю дробь костяшками пальцев, испытав при этом странное чувство освобождения. Выждав мгновение, я постучала снова.
Дверь отворилась, и в коридор выглянула сестра Серафина. Она была в одной ночной сорочке и зябко куталась в накидку. Коротко стриженые волосы, светло-русые с оттенком красного дерева, торчали в разные стороны. Она вопросительно уставилась на меня.
— Пчелы собираются в рой, — прошептала я.
Выражение ее лица изменилось. Она распахнула дверь шире, отступая на шаг и наклоняясь, чтобы достать из-под кровати башмаки. Я быстрым взглядом окинула ее комнату. На полу лежал теплый ковер яркой расцветки, а через спинку кровати было перекинуто толстое стеганое одеяло желтого атласа. На стене висела потрясающая картина кающейся Марии Магдалины, обратившей к небу полные слез глаза. Густые пряди блестящих волос обнимали ее тело, едва прикрывая спелую наготу груди. На стене напротив виднелся простой деревянный крестик из веточек терновника, связанных воедино потемневшей от времени серебристой лентой.
Сестра Серафина подхватила с пола свои башмаки, и мы поспешили по коридору в сад.
— Надеюсь, мы успеем, — прошептала она, открывая садовую калитку.
Небо посветлело. Солнечные лучи позолотили шпиль церкви, высветив буйную красу распускающихся почек гранатового дерева. Жужжание стало громче; оно походило на колотушку ночного сторожа, предупреждающую об опасности.
Сестра Серафина устремилась вперед, прямо к темному облаку пчел. Я побежала за ней, чувствуя, как уже знакомый возбуждающий страх покалывает кожу. В детстве меня однажды укусила пчела, и я хорошо запомнила, как это больно. Но сестра Серафина отнюдь не собиралась сражаться с роем голыми руками. Вместо этого она направилась в хижину и передала мне шляпу с вуалью, сковороду с крышкой на длинной ручке, огниво и небольшой дымокур. Я поспешно надела шляпу, опустила на лицо вуаль и сунула озябшие руки в перчатки. Сестра Серафина быстро и ловко насыпала на сковородку высушенные цветы пижмы, похожие на пахучие коричневые пуговки, после чего подожгла сморщенные коричневые листочки искрой, которую высекла кремнем. Пижма вскоре занялась, и из кастрюли повалил густой серый дым.

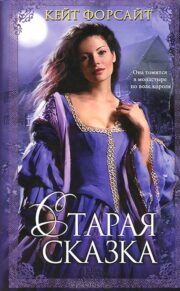
"Старая сказка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Старая сказка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Старая сказка" друзьям в соцсетях.