Вместо ответа я лишь пожала плечами. Постояв еще немного, он ушел, оставив меня одну, с монетой в руке.
Через неделю я вновь ждала его с очередным букетиком маргариток. На этот раз он сразу же подошел ко мне и сказал:
– Паскалина, я беспокоился о вас. У вас все в порядке?
На сердце у меня потеплело. Я улыбнулась ему и кивнула.
– Я в первый раз вижу, как вы улыбаетесь.
– А мне впервые хочется улыбаться. Вы купите мои цветы?
– С удовольствием.
Мы стояли и разговаривали о погоде, о цветах, о том, что я буду делать со своей монетой, а потом он сказал:
– Я должен идти, иначе я опоздаю. Вы придете… придете сюда еще раз?
Я кивнула. Уходя, он оглянулся, и взгляды наши встретились. Он улыбнулся, и я улыбнулась ему в ответ.
На следующей неделе наступил Иванов день[65]. Я пошла на луг и нарвала столько маргариток, сколько смогла унести, а потом стала ждать его на мосту. Вскоре я увидела, как он с радостной улыбкой спешит мне навстречу.
– Я подумала, – сказала я после того, как мы немного поговорили, – что, быть может, вы захотите посмотреть, где я живу.
Он отступил на шаг и нахмурился.
Я гордо выпрямилась и приподняла подбородок.
– Я не собиралась… предлагать вам свое тело, если вы подумали об этом. Неужели я стояла бы на улице, продавая луговые цветы, если бы занималась этим ремеслом? Я бы жила в хорошем доме, носила бы шелка и атлас и ела бы язычки ласточек. Я бы заработала целое состояние, если бы решила стать куртизанкой. Но вот я стою перед вами босиком и в лохмотьях, питаясь отбросами из сточной канавы. – Глаза мои наполнились слезами, и я повернулась, чтобы уйти.
Он схватил меня за руку.
– Простите, я не хотел оскорбить вас.
– Вы были очень добры, – сказала я, не глядя на него. – Вам необязательно покупать мои цветы. Я всего лишь хотела поблагодарить вас.
Он отпустил мою руку и поклонился.
– Прошу прощения. Разумеется, я пойду с вами.
Когда мы сошли с моста, я робко заметила:
– Я даже не знаю, как вас зовут.
Он улыбнулся.
– Меня зовут Алессандро.
– Красивое имя. Оно мне нравится.
– Так звали отца моего отца, – пояснил Алессандро. – И, скорее всего, отца его отца тоже.
– Пойдемте сначала на рынок. Я покажу вам, что сделаю с монетой, которую вы мне дали.
Я купила свежего хлеба, головку чеснока, кружок сбитого масла, завернутого в муслин, и рыбу. Он вызвался нести покупки, и я улыбнулась, глядя на него – с букетиком маргариток в одной руке и рыбой, болтающейся в другой, он выглядел очень смешно. Он тоже улыбнулся мне и расхохотался, и я едва не рассмеялась в ответ.
Я привела его в маленькое гнездышко, которое соорудила для себя на крытой галерее старой заброшенной церкви. Дверь была заперта, в замочной скважине колыхалась паутина. Я притащила старую дверь и загородила ею вход, а потом завалила его досками и прочим хламом, чтобы он походил на кучу мусора. Чтобы попасть внутрь, Алессандро пришлось опуститься на колени. Он выпрямился, отряхнул панталоны, огляделся по сторонам, и на лице его появилось странное выражение.
Я сделала все, что в моих силах, чтобы привести галерею в порядок, смастерила метлу из веток и даже отыскала старое ведро, в которое набирала воду из колодца на площади. У одной стены, выложив полукругом старые камни, я устроила очаг, в котором разводила огонь. У другой находилось мое ложе из старых занавесок и подушек, которые я вычистила, как могла. В старом кувшине на подоконнике у окна над постелью стоял букет цветов – маргариток, тысячелистника, фенхеля, любистка и шиповника, – которые я собрала в лесу и на лугу на материке. Все эти цветы символизировали любовь и желание, как объяснила мне куртизанка. Она же дала мне толстую красную свечу, немножко мирта и розового масла, чтобы натереть ее ими.
– Да у вас здесь настоящий маленький дом.
Я кивнула.
– Я боюсь, что его кто-нибудь найдет и выгонит меня на улицу. Каждый день, возвращаясь сюда, я со страхом представляю, что все мои труды пропали даром, и все здесь прибрано.
– Зимой здесь будет холодно.
– Все равно не так холодно, как если бы мне пришлось ночевать на улице.
С помощью кресала я зажгла сначала свечу, а потом развела в очаге огонь, пристроив на угольях небольшую железную кастрюльку. В нее я положила две пригоршни петрушки из сада куртизанки, которые вымачивались там вот уже два часа. Я почистила и нарезала рыбу на старой доске, а потом переложила ее вместе с мелко нарубленным чесноком и растопленным маслом на старую сковородку, которую, как и все прочее, нашла в мусорной яме. Обжарив рыбу, я опустила ее в кипящую воду с петрушкой, после чего вернула кастрюльку на огонь, чтобы медленно довести до кипения.
Вскоре мой маленький домик наполнился восхитительными ароматами. Алессандро расстелил свою накидку прямо на плитах пола и сел на нее. Я пристроилась на краешке своей импровизированной постели. Он стал ненавязчиво расспрашивать меня о моем доме и семье. Голосом, звенящим от боли, я отвечала ему, как могла. Один раз он даже сочувственно протянул мне руку. Я взяла ее, и он накрыл мою ладонь своею.
У меня была только одна миска и одна ложка, поэтому мы ели по очереди, макая хлеб в прозрачный зеленый бульон и вылавливая оттуда маленькие кусочки восхитительной белой рыбы. Стемнело, и пламя красной свечи и небольшого огня в очаге отбрасывало резкие тени на его лицо. Он казался мне самым красивым мужчиной на свете. Я подумала, что если он сейчас полюбит меня, то я буду счастлива вечно. Когда мы покончили с супом, я взяла его лицо в ладони, привлекла к себе и поцеловала.
О, моя родная piccolina, я полюбила его всем сердцем. Может быть, ты думаешь, что я не должна была просить куртизанку сделать так, чтобы и он полюбил меня. Может быть, он влюбился бы в меня и так, без петрушки, которую я сорвала в ее саду, и без красной свечи, которую она дала мне. Но разве могла я знать наверняка? Я была жалкой нищенкой, одетой в убогие лохмотья. Наступил Иванов день, стояла еще достаточно теплая погода и можно было спать под открытым небом. Но вскоре должна была прийти зима, и я бы замерзла насмерть. Мне было очень нужно, чтобы он полюбил меня.
Думаю, что именно в ту ночь мы и зачали тебя, моя дорогая девочка, моя маргаритка. Хотя я узнала об этом не сразу. Мы с Алессандро лежали в куче тряпья и любили друг друга так самозабвенно, как только могут любить мужчина и женщина. А когда мы затихли в объятиях друг друга, я смеясь вытащила маргаритку из букета, который мы поставили в ведро, и воткнула ему в волосы за ухом.
– Там, откуда я родом, мы называем маргаритки «любит-не-любит», – сказала я.
– Правда? Какое странное название.
– Ты – типичный городской мальчишка. Разве ты не знаешь, как нужно сделать? – Я прижалась щекой к его груди и взяла еще одну маргаритку. Оборвав один лепесток, я нараспев произнесла: – Любит. – Оборвав другой, пропела: – Не любит. – Один за другим маленькие белые лепестки, кружась, слетали на пол, пока не остался всего один, самый последний. Я сорвала его, с торжеством заключив: – Любит.
– Люблю, – сказал Алессандро и склонился надо мной, чтобы поцеловать.
Горькая зелень
Венеция, Италия – январь 1583 года
Мы должны были быть счастливы. И так оно и случилось. Почти.
Когда мы поженились, ты была совсем еще маленькой мышкой в моем животе. Никто, кроме меня и твоего отца, не знал, что ты там есть, хотя, пожалуй, твоя nonna[66] о чем-то таком догадывалась.
Она настояла на том, чтобы мы поселились в этом доме, а сама переехала к твоей zia[67] Донне, которая только что родила двойню. Бабушка оставила нам все: мастерскую, маски, отливочные формы, краски, перья и хрусталь, большую часть мебели и даже свою кровать. У меня появилось то, о чем я могла только мечтать, даже ковер, который надо было выбивать, повесив на веревке над улицей.
Каждый раз, когда я глядела в окно на сад куртизанки, я не могла избавиться от жгучего чувства вины.
Мы не были столь богаты, как она: у нас не было роскошного дома, собственной гондолы, платьев и слуг. Тем не менее через несколько месяцев после нашей с Алессандро свадьбы я взяла все деньги, которые удалось сэкономить на хозяйстве, и пошла к ней, чтобы отдать. Она ведь сама говорила, что за все нужно платить.
Но женщина холодно посмотрела на меня и заявила:
– Мне не нужны твои деньги.
– Я всего лишь хотела отблагодарить вас.
– Мне не нужна и твоя благодарность.
– Вы помогли мне, так позвольте мне отблагодарить вас.
– Придет время, когда мне потребуется кое-что от тебя, и вот тогда ты сможешь помочь мне. – Она окинула жадным взглядом мой живот. Я инстинктивно плотнее запахнула шаль. – Оставь деньги себе. Они тебе скоро пригодятся.
Вскоре после этого визита к куртизанке Венеция перестала казаться мне волшебным городом, превратившись в нагромождение холодного камня. Стояла зима, купола и шпили кутались в клочья серого тумана, приглушающего звон колоколов и крики гондольеров. Пронизывающий ветер с моря задувал в каждую щелочку, а на тротуарах улиц плескалась ледяная вода, так что моя обувь и подол платья вечно оставались сырыми и тяжелыми. Я никак не могла согреться.
Меня вдруг потянуло ко всему зеленому. Глаза мои жаждали отдохновения на зеленых лугах. Я мечтала посидеть на зеленой траве в тени зеленого же дерева. Мне хотелось съесть прохладного зеленого салата. Я умирала от желания ощутить на языке вкус рукколы, сбрызнутой оливковым маслом и сдобренной пармезаном, кусочков спаржи в растопленном масле и салата из сладкой и горькой зелени. Но более всего мне хотелось рыбного супа с петрушкой.
Когда я только переселилась в дом над мастерской масок, то всегда держала ставни своей спальни закрытыми, чтобы не видеть сада куртизанки. Но теперь я целыми днями сидела у окна, глядя на вечнозеленые живые изгороди розмарина, окружающие садовые клумбы, на которых по-прежнему цвели, невзирая на холод, чемерица и черноголовка, сурепка и лук виноградный, химонант[68] и гамамелис. Мне снилось, как я ем сурепку. В лицо мне летел снег, но я упрямо сидела у окна, дрожа от холода и кутаясь в коричневую шерстяную шаль, не сводя глаз с сада куртизанки. Приходил Алессандро и умолял меня лечь в постель, но я дожидалась наступления темноты и только тогда позволяла увести себя от окна. Он укладывал меня в кровать и укрывал выцветшим старым ковром, подкладывая в ноги каменную грелку с горячей водой, но я все равно не могла согреться.
И я не могла заставить себя проглотить ни кусочка.
Повитуха лишь встревоженно прищелкивала языком, приглушенным голосом разговаривая в соседней комнате с моим мужем.
– Ребенок не сможет правильно развиваться, если она не будет есть, – уверяла она. Поэтому Алессандро обшаривал рынки в поисках еды, которая, по его мнению, придется мне по вкусу. Но стояла зима, и времена были нелегкими. Я худела на глазах, становясь все бледнее.
Еще никогда Великий пост не казался мне таким долгим. Алессандро говорил, что и мышь ест больше меня. Он даже купил мне мяса, сходив к мяснику в гетто, рискуя подвергнуться наказанию и пройти сквозь строй горожан вокруг площади с бараньей ногой, привязанной к шее. Алессандро чуть не плакал, когда я отвернулась к стене и отказалась есть его.
Пришла весна, и садовники куртизанки сгребли снег и размотали мешковину, которой были укрыты деревья. Я оторвала голову от подушки, чтобы полюбоваться зрелищем. В течение следующих нескольких дней были посажены семена, и вскоре зеленая дымка окутала свежевскопанные клумбы. Я смотрела на сад, сгорая от желания. С каждым днем зелень в саду куртизанки становилась все гуще. Я узнавала петрушку, лук-резанец, сурепку, листья настурции, одуванчик – странный выбор растений для богатой женщины, думала я – красивые колокольчики, которые моя мать называла рапунцелем, из которых получался замечательный салат.
– Мне нужно съесть что-нибудь, иначе я умру, – сказала я Алессандро.
Он пожевал губу и сжал кулаки, а когда к нам пришла повитуха, чтобы осмотреть меня, – потому что я уже переносила ребенка, и она беспокоилась из-за этого, – он передал ей мои слова.
– Пусть она ест то, что ей нравится, – ответила повитуха. – Разве вы не знаете, что это повредит ребенку, если ее желания останутся невыполненными? Ни в коем случае нельзя пугать или расстраивать беременную женщину, иначе ее мысленные терзания приведут к деформации ребенка. Если она хочет молока, но не получает его, ее ребенок родится с белыми волосами. Если дорогу ей перебежит заяц, то ребенок родится с заячьей губой. Если вы не дадите ей петрушки, то у вашего ребенка на лице появится родимое пятно в форме стебля петрушки и изуродует его, помяните мои слова.
Я лежала в постели, слушая, как дождь стучит в ставни, обеими руками обнимая свой раздувшийся живот. «Кто ты? – думала я. – Что за маленькая жизнь трепещет во мне? Или я прокляла тебя от рождения, когда прибегла к колдовству, чтобы твой отец полюбил меня?»

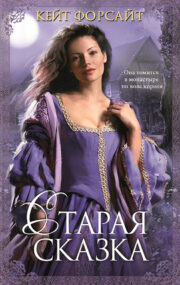
"Старая сказка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Старая сказка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Старая сказка" друзьям в соцсетях.