– Да, я знаю. Простите меня.
– Лучше посмотри, что я принесла тебе, – сказала колдунья, помогая Маргерите вытягивать тяжело нагруженную веревку. – Тебя ждет приятный сюрприз.
«Пусть это будет щенок, – мысленно взмолилась Маргерита, скрестив пальцы на обеих руках. – Пожалуйста, пусть это будет щенок».
Но подарок колдуньи ко дню рождения Маргериты состоял из девяти маленьких глиняных горшочков, мешка земли и нескольких небольших ситцевых мешочков с семенами: петрушкой, базиликом, орегано, розмарином, чабрецом, луком-резанцем, шалфеем, сурепкой и маленьким колокольчиком, который мать Маргериты называла рапунцелем.
Урожай горькой зелени на тринадцатый день рождения Маргериты.
Аббатство Жерси-ан-Брие, Франция – апрель 1697 года
Зазвенел колокол, созывая монахинь на службу шестого часа. Я с раздражением посмотрела на монастырь. Мне очень не хотелось возвращаться в огромную мрачную церковь, чтобы еще час простоять на и так ноющих коленях. Но сестра Серафина уже отряхивала землю с садовых инструментов и укладывала их обратно в корзину и, стаскивая перчатки, поднялась на ноги.
– Свой рассказ я закончу завтра. Утро пролетело незаметно, не так ли? А мы засадили почти всю клумбу.
– Для чего? Для чего запирать маленькую девочку? Это… это представляется мне жестоким, – вырвалось у меня.
Я живо вспомнила те времена, когда мой опекун, маркиз де Малевриер, запирал меня в пещере отшельника в подземелье замка Шато де Казенев. Я сидела, сжавшись в комочек, в промозглой темноте, тело ныло от ударов березовой розги, и я ненавидела его всем сердцем.
– Чтоб у тебя по всему телу вскочили чирьи, – неистовствовала я. – Чтоб тебя загрызли комары, блохи, саранча и тараканы. Чтоб тебя затоптало стадо бешеных свиней и заплевал страдающий желудком верблюд. Я… я заставлю тебя пожалеть об этом. Я подброшу тебе скорпионов в постель. Я плюну тебе в суп!
В конце концов запас моих ругательств и проклятий иссякал, и я сидела, раскачиваясь в темноте, злясь на свою мать за то, что она позволила увезти себя, и укоряя себя за то, что до сих пор не могу простить ей это. Потом на смену злости приходили слезы. Я все еще плакала, когда Нанетта потихоньку отпирала дверь и прошмыгивала внутрь. Она приносила мне носовой платок – я вечно теряла свой собственный, – теплую шаль и свиную saucisson[99].
– Не плачьте, Бон-Бон, все в порядке. Маркиз молится. Он не встанет с колен еще несколько часов. Вы можете пробежать по потайному ходу и поиграть в пещерах, но слушайте колокол. Месье Ален зазвонит в него, когда маркиз пойдет вниз. А уж я побеспокоюсь, чтобы вы сидели под замком, когда этот негодяй придет за вами.
– Спасибо, – шмыгала я носом, обнимала Нанетту за шею и целовала в щеку, а потом убегала и носилась сломя голову по пещерам и лесу.
Каково это – оказаться запертой в одиночестве комнаты на вершине башни на долгие годы? Каково это – обнаружить скелеты других девушек в подвале и знать, что их волосы стали твоими? От этих мыслей по коже у меня пробежали мурашки.
Я никогда не забывала жестокости маркиза де Малевриера, как никогда не понимала и того, какие демоны подвигли его так обращаться со мной и сестрой. И насколько таинственными должны быть мотивы той давно забытой колдуньи.
– Почему она так поступила? – уже успокаиваясь, негромко спросила я.
По лицу сестры Серафины промелькнула тень беспокойства.
– Думаю… Думаю, она боялась.
– Боялась? Но чего?
– Времени, – едва слышно ответила сестра Серафина.
Элегия
…Так держи меня, Любовь моя, держи, Обними меня за шею, И позволь мне взять твое сердце За стебель, как цветок, Чтобы оно расцвело и не сломалось. Дай мне свою кожу Прозрачную, как паутина, Дай мне раскинуть ее И прогнать темноту. Подставь мне свои губки, Припухшие от утех, А я подарю тебе ангельский огонь взамен.
Шлюхино Отродье
Венеция, Италия – август 1504 года
Разумеется, на самом деле меня зовут вовсе не Селена Леонелли. И не La Strega Bella, хотя это имя и доставляет мне удовольствие. При крещении меня нарекли Марией, как и большинство маленьких девочек, родившихся в Венеции в 1496 году. А вот фамилии у меня не было, если, конечно, не считать фамилией то, как меня величали – Мария Шлюхино Отродье или Мария Сукина Дочь.
Да, моя мать была шлюхой. Но не одной из этих уличных девок, чем только не болевших, промышлявших у Моста Титек. Она была cortigiana onesta[100], куртизанкой, чьей благосклонности домогались многие из-за ее красоты, ума, очарования и сексуальной привлекательности. Ей платили за то, что она пела и играла на лютне, сочиняла стихи, танцевала и очаровывала беседой. Ну и за секс, разумеется.
Секс оплачивал наш палаццо на Большом канале. Секс оплачивал повариху, лакеев и гондольера, который доставлял мать на званые обеды и вечеринки на нашей блестящей черной гондоле. Секс оплачивал служанок, которые молча подбирали сброшенные шелковые чулки матери и каждый день меняли запачканные простыни.
Меня одевали, как маленькую принцессу, в белый атлас, расшитый жемчугами. У меня был целый сундучок, в котором хранилась исключительно обувь. Домашние туфельки без задников из красного бархата. Сапожки пурпурного шелка, расшитые цветами. Бальные туфельки, украшенные серебряными цехинами, так что мои ноги сверкали и искрились во время танцев.
Когда к моей матери приходили мужчины, горничная всегда уводила меня в мою комнату. При этом я страшно злилась. Я начинала кричать и швыряла в бедную служанку все, что подворачивалось под руку, пока в шуршании шелка не являлась мать, чтобы успокоить меня. «Ты не должна сердиться, – говорила она, ласково перебирая золотисто-рыжие локоны. – Для меня они ничего не значат. И люблю я только тебя. И никакой мужчина никогда не встанет между нами».
Мужчина, приходивший чаще других, был высок и худощав. У него была бородка клинышком, тонкие ухоженные усики и вьющиеся волосы, умащенные дорогими маслами. Его звали Зусто да Гриттони. Я его ненавидела. Стоило его гондоле причалить у водяных ворот, как за мной прибегала служанка и поспешно уводила меня прочь. И я подчинялась безо всяких возражений. Мне не нравилось, как он смотрит на меня. Глаза его напоминали мне глаза кобры, которую я однажды видела раскачивающейся под музыку факира на площади Сан-Марко.
Когда он приходил, мать всегда нервничала и не находила себе места. Я слышала ее резкий, неестественный смех и стук ее chopines[101] по мрамору, когда она расхаживала взад и вперед, предлагая ему всевозможные яства, подливая вина, перебирая струны лютни и напевая одну песню за другой. «Довольно, – обрывал он ее. – Я пришел сюда не ради твоего голоса или прекрасных глаз. Идем в постель».
Ее шаги замедлялись, когда они поднимались по лестнице в ее спальню. Она ступала со ступеньки на ступеньку все медленнее, а он подгонял ее, говоря, чтобы она поторапливалась. А потом до меня доносился стук открываемой и закрываемой двери. В это мгновение моя служанка затыкала уши, но я всегда слушала. Он кряхтел, злобно и удовлетворенно. Она судорожно постанывала. После его ухода мать подолгу оставалась в постели. Я забиралась к ней под бок, и мы часами лежали вместе. Мать пыталась скрыть от меня слезы, катящиеся по лицу, которые она тайком утирала уголком шелковой простыни.
Моя мать была необыкновенно красива. Ее звали Бьянка. Имя ей очень шло, потому что волосы у нее были невероятного цвета позолоченного серебра, того редкого оттенка, что так нравится венецианцам. Большую часть каждого дня она тратила на поддержание красоты. Бьянка умывалась белым вином, в котором варили змеиную кожу, втирала в кожу лица измельченные бутоны водяных лилий, чтобы придать себе интересную бледность, и гашеной известью прижигала линию волос, чтобы лоб казался выше.
Солнечные дни мы проводили на крыше нашего палаццо, сидя под навесом в широкополых соломенных шляпах без тульи, чтобы можно было выпростать волосы поверх полей, так что они падали на спинки наших кресел. Мать умащивала волосы пастой, составленной из лимонного сока, мочи и серы; от этого они блестели и переливались, подобно самым нежным золотистым шелкам.
Зато моя прическа от этого снадобья кучерявилась мелкими завитушками и обретала цвет старой меди. Поэтому мать смешивала сок моркови и кормовой свеклы и втирала ее мне в волосы, уговаривая меня не злиться и обещая, что после такой процедуры они будут пламенеть, как огонь в камине. Так оно и получалось.
Моя мать знала массу всяких подобных штучек. Она выросла у дедушки в деревне. У него был фруктовый сад, и в нем росли всевозможные овощи и травы. В соломе рылись куры, на голубятне ворковали толстые голуби, коза пощипывала травку. Под гранатовым деревом на подставках стояли шесть пчелиных ульев, и дед, проходя утром в курятник, чтобы собрать яйца, здоровался с ними.
– Знаешь, я очень скучаю по саду своего nonno, – говорила мне Бьянка. – С рассвета до заката мы работали на свежем воздухе. Он всегда говорил, что мои волосы такие светлые из-за солнечного света, который я вобрала в себя еще ребенком. Он знал все, что только можно, о земле, временах года, животных и растениях.
– Мне бы хотелось побывать там.
Я очень редко покидала пределы нашего палаццо, и при этом мать всегда крепко держала меня за руку, чтобы я не потерялась в толпе. Я никогда не видела ни дерева, ни лужайки, поросшей мягкой бархатистой травой, ни берега реки с благоуханными полевыми цветами. Венеция была городом каменного кружева и воды, и единственным зеленым цветом была плесень в тех местах, где эти две стихии соприкасались.
– Мне тоже. – Мать смотрела куда-то вдаль, поверх нагромождения красных островерхих крыш, желтых куполов и башен.
– А почему мы не можем поехать туда?
– Потому что мой nonno умер. Еще до твоего рождения. – Бьянка поднялась на ноги и протянула мне руку. – Вставай, нам пора идти, Мария.
– Но солнце еще не село.
– Сегодня я должна быть на приеме у дожа, и мне надо подготовиться.
Служанки наполнили сидячую ванну матери горячей ароматической водой, и мы залезли в нее вдвоем, обнаженные, смывая краску с волос друг друга.
– У тебя такие красивые волосы, – сказала вдруг она. – Как золотая парча. Если бы мы могли соткать их, то заработали бы целое состояние.
– А мне бы хотелось иметь такие волосы, как у тебя.
– В Венеции все женщины сплошь блондинки, – со смехом ответила она, – пусть даже ненатуральные. А у тебя цвет редкий и драгоценный, как янтарь.
Она выпрямилась, обрушив на меня каскад воды, и служанки вытерли ее насухо, а потом стали одевать и умащать благовониями. А я сидела, всеми забытая, в остывшей воде, пока они вплетали ей в косы жемчуг и серебряные ленты.
На следующий день, когда мы с ней лежали в постели, я вновь стала донимать мать расспросами о своем дедушке. К моему удивлению, она разговорилась.
– Nonno был benandanti[102]. – В голосе ее прозвучала сдерживаемая боль.
– А что это значит? Добрый странник? Или ты имеешь в виду… цыгана? Бродягу?
– Нет-нет. Это слово означает… человека, который способен странствовать во сне. Это трудно объяснить. Видишь ли, nonno родился с перепонкой[103] на лице. Это такой тонкий слой кожи, который повитуха осторожно срезает, чтобы ребенок остался жив. У него на лице остался шрам в том месте, где она оторвала эту перепонку. Он носил ее скатанной в маленькой ладанке на шее. Иногда он показывал ее мне. Она была похожа на скомканный полупрозрачный шелк, что-то вроде отворота или воротника с рюшем. – Мать лежала, повернувшись ко мне, и лицо ее бледным овалом виднелось в темноте. Волосы ее рассыпались по подушке. Я придвинулась к матери поближе, и мои медные пряди смешались с золотом ее кос.
– Родиться с перепонкой во все века считалось хорошим знаком, – продолжала мать. – Говорят, что те, кто носит перепонку, не могут утонуть и дружат с водой. Обладатели перепонки могут странствовать вдали от своей телесной оболочки, но только по ночам, во сне, чтобы сразиться с силами мирового зла и не позволить им причинить зло всей остальной деревне. Вот почему их называют «добрыми странниками», потому что четыре раза в год, в Ночь Красных Угольков, они оставляют свои тела и идут сражаться с malandanti, злыми странниками.
– А что такое Ночь Красных Угольков?
Мать заколебалась. Щекой я чувствовала ее теплое дыхание.
– Это такие дни, когда святые и мученики постились и совершали покаяния, и benandanti постились тоже. Они ничего не ели, кроме горьких трав, а пили лишь родниковую воду. Так случалось четыре раза в год, во времена наступления нового сезона. Когда осень сменялась зимой, наступал Праздник Теней, ночь, когда можно предсказывать будущее и общаться с умершими. Приход весны знаменовал Праздник Волка, когда нужно было веселиться и заниматься любовью. Наступление лета отмечал Женский день, когда заключались помолвки и начинались танцы вокруг майского дерева[104]. Переход лета в осень именовался Рогом Изобилия, мы праздновали сбор урожая и наслаждались плодами земли. Это были дни, когда магические силы, и добрые, и злые, достигали пика своей силы. Мой дед постился, молился и ложился спать, а потом душа его расставалась с телом, и в образе волка он отправлялся на битву с силами Тьмы.

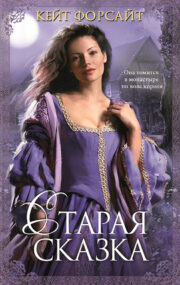
"Старая сказка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Старая сказка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Старая сказка" друзьям в соцсетях.