Теперь фавориткой считалась Франсуаза, маркиза де Ментенон. Кое-кто уверял, что она уже успела стать тайной супругой короля, обвенчавшись с ним в полночь во время уединенной церемонии вскоре после смерти королевы. Во дворце ей были предоставлены лучшие комнаты, располагавшиеся на верхнем этаже, напротив апартаментов самого короля. Король проводил у нее все свободное время. Он стал носить простую одежду темных тонов, как типичный буржуа, отказался от колец, бриллиантовых пряжек или булавок с драгоценными камнями, и недовольно косился на все те divertissements[172], которые так любил раньше.
Тем не менее Франсуаза, как и я, родилась в семье гугенотов, хотя ныне считалась ревностной католичкой. Она вот уже десять лет пытается спасти мою душу. Если я поговорю с нею…
– Под лежачий камень вода не течет, – процитировала я одну из любимых поговорок матери. – Я поговорю с маркизой де Ментенон. Если кто и может убедить короля, так это она.
Сказать это оказалось легче, чем сделать.
Безвозвратно канули в прошлое дни, когда к маркизе де Ментенон можно было запросто подойти и посплетничать с нею за чашкой горячего шоколада. Теперь получить у нее аудиенцию было ничуть не легче, чем у самого короля.
Кроме того, Франсуаза была чрезвычайно занята недавним браком принцессы Луизы-Франсуазы, старшей дочери Атенаис, с внуком Великого Конде. Принцессе исполнилось всего одиннадцать лет от роду, поэтому после церемониального возлежания на брачном ложе с супругом, она вернулась к учебе под крылышко своей гувернантки. Вот только принцесса всей душой презирала маркизу де Ментенон и решительно отказывалась признавать ее власть над собой. Добавьте к этому негодование ее сводной сестры из-за того, что принцесса Луиза-Франсуаза оказалась выше ее по положению, и вы поймете, что при дворе было неспокойно.
Ко всему прочему, на ноге у короля образовался фурункул размером с добрую сливу, причинявший ему такую боль, что он не мог ходить. На заседания Совета его приносили на носилках, а охотиться он отныне мог только из небольшого экипажа. Немощь приводила его в такую ярость, что он постоянно пребывал в крайне дурном расположении духа. Франсуазе приходилось нелегко – она пыталась ухаживать за ним и умиротворить, – а такая задача у кого угодно отнимет последние силы.
Наконец мне удалось поймать взгляд Франсуазы, и я поспешно сложила руки умоляющим жестом перед грудью. Она подошла поприветствовать меня, величественная дама в строгом платье, которое тем не менее производило впечатление очень дорогого.
– Мадемуазель де ля Форс, вам что-то от меня нужно?
– Совесть моя неспокойна, – ответила я. – Моя душа в смятении.
– Разве у вас нет своего духовника?
– Мадам вы забываете, я… я…
Она выглядела удивленной.
– Мадемуазель, вы разве до сих пор не отреклись от своих заблуждений? Король будет очень недоволен. Неужели вы не слышали о последнем законе против еретиков?
– Слышала. И потому сердце мое неспокойно. Я хочу быть доброй христианкой и верной подданной Его Величества, покаяться и встать на путь исправления, но я чувствую себя в долгу перед своими умершими родителями.
Лицо ее смягчилось.
– Пожалуй, я понимаю ваше затруднение. Приходите ко мне после полудня, мы поговорим и посмотрим, смогу ли я помочь вам в столь затруднительном положении.
Тем же вечером я украдкой выскользнула в сад на встречу с Шарлем. Дворец сверкал: свечи горели почти в каждом окне, и до меня доносился громкий смех, музыка и звон бокалов. Снаружи, однако же, царила тишина. Лужайки и дорожки серебрились под луной, словно запорошенные инеем, искрились каналы и фонтаны, и между ними лежали тени, глубокие и черные. Было прохладно, и я плотнее запахнула бархатную накидку.
Шарль ждал меня подле фонтана, высокий и широкоплечий, закутанный в темный плащ. В лунном свете лицо его выглядело совсем по-другому – суровым и строгим, – но при виде меня он улыбнулся и раскинул руки в стороны, и я, радостно вскрикнув, бросилась ему навстречу.
– Все устраивается как нельзя лучше, – шепнула я ему. – Если я отрекусь от своей веры, маркиза поговорит с королем и убедит его одобрить наш брак. Она говорит, что он даже может назначить мне пансион.
Шарль подхватил меня на руки и закружил.
– Это же замечательно! О, мой отец не посмеет отказать нам, если сам король поддержит нас!
Я обвила его руками за шею, дернула за жесткие кончики завитого парика и игриво куснула за нижнюю губу.
– Я стану мадам де Бриу.
– Непременно, – заверил меня он. По-прежнему держа на руках, Шарль понес меня спиной вперед в тень купы деревьев, на ходу расстегивая мне корсаж. Я же занялась его жилетом. – Мы сможем открыто спать по ночам вместе, как пожилая супружеская чета, и мне не придется выскальзывать тайком от тебя посреди ночи.
Я сделала вид, что обиделась.
– В самом деле? А мне нравятся наши тайные встречи.
– В таком случае продолжим, – сказал он, опрокинул меня на руку и, поддерживая за талию, стал опускать на землю.
Я ахнула и засмеялась, цепляясь за его сильную руку, а юбки мои взметнулись кверху.
– Почему ты всегда носишь столько одежек? – проворчал он, развязывая мою накидку и стягивая платье с плеч. – Пробраться внутрь бывает решительно невозможно.
– А я полагала, что у тебя уже была достаточная практика, – отозвалась я, помогая ему снять камзол.
Он сорвал с головы парик и отшвырнул его в сторону, а потом прилег рядом, целуя меня в обнаженное плечо и целенаправленно двигаясь к груди. Одна рука Шарля ловко расстегнула пояс панталон, а другая скользнула вверх по моему бедру, стремясь добраться до гладкой обнаженной кожи над подвязками.
– Самое хорошее в супружестве – это то, что я смогу затащить тебя голую в постель в любой момент.
Я открыла рот, чтобы съехидничать, но он взял мои губы в плен. Руки его тем временем ловко освободили меня из плена нижних юбок, чулок и корсета, пока я не осталась голой, как новорожденный младенец. Земля подо мной была сырой и холодной, и я поежилась и плотнее прижалась к нему.
Одним быстрым движением Шарль перевернул меня и посадил верхом себе на живот, так что я обхватила его коленями. Он нетерпеливо вошел в меня, приподняв бедра, и я вскрикнула от удивления и наслаждения. В такой позе я еще никогда не занималась любовью. Я ощутила, как он вошел в меня, так глубоко, как никогда ранее. Я выгнулась и легла ему на грудь, потом выгнулась снова, ощутив вдруг власть над ним. А Шарль стонал подо мной и резко приподнимал бедра, пытаясь угнаться за мной. Сдвинув колени, я склонилась над ним, и тела наши задвигались в ускоряющемся ритме, как будто я скакала на лошади, идущей галопом. Вытянув руки над головой, я ухватилась за ствол дерева, чувствуя, как приближается момент наивысшего блаженства и сладкого взрыва.
– О Боже, Шарль! Я люблю тебя! Люблю!
Он выдохнул ответ мне в шею, когда я повалилась на него, а он обхватил меня ладонями за ягодицы и стал медленно раскачивать, словно не в силах остановиться.
– Ma cherie, – нежно прошептал он. – Скоро ты станешь моей маленькой женой.
Пасхальные яйца
Версаль, Франция – апрель 1686 года
Я сидела с пером в руке, на кончике которого высыхали чернила, и смотрела на чистый белый лист перед собой. Меня охватило оцепенение. Я не могла написать тех слов, которые должна была: «Моя дорогая сестренка, пишу тебе, чтобы сообщить: я решила повиноваться Его христианнейшему величеству королю и принять единственно истинную веру…»
Мне было невыносимо представить себе лицо Мари, когда она будет читать это письмо. Я боялась представить, что она обо мне подумает. За прошедшие годы я лишь несколько раз виделась с нею, но она по-прежнему оставалась кровью от крови моей и плотью от плоти моей. Мы вместе слушали былины и легенды, сидя на коленях у матери, и учились читать по Библии. На наших глазах драгуны схватили и увели нашу маму, чтобы заточить против ее воли в монастырь. Мы вместе страдали, но вынесли тяжкие годы владычества нашего опекуна. Мы были связаны воедино чем-то более сильным, нежели время.
– Я не могу, – сказала я, откладывая перо. – Она никогда не простит меня.
Но потом я подумала о Шарле, о тех ужасах, что меня ожидают, если я попаду в тюрьму или буду сожжена на костре, и вновь взялась за перо.
«…Дорогая моя сестренка», – дрожащей рукой вывела я первые строчки, глотая слезы. Как бы мне хотелось повидаться с Мари и рассказать ей о том, что мучает меня, поведать, что я потеряла Бога, и что мне кажется, что и Господь забыл обо мне. Я хотела поделиться с ней своими страхами о том, что мама ошибалась, и что мы – не избранные, и что Господь проклял нас за нашу гордыню. Мне хотелось передать ей свою веру в то, что любовь – единственное, ради чего стоит жить в нашем порочном мире.
Но я не смела доверить самые сокровенные чувства бумаге. Всю почту во французском королевстве вскрывали и прочитывали шпионы короля, и личное письмо сестре превращалось в публичное покаяние перед всем двором, и мне оставалось только надеяться, что Мари прочтет между строк и поймет меня.
И тут я услышала, как в мою дверь кто-то тихонько поскребся, и в комнату вошла Нанетта, судорожно заламывая руки. На ее лице отражались тревога и беспокойство.
– Мадемуазель, из Казенева прибыл гонец с подарками от вашей сестры, баронессы, к празднику Пасхи.
Я в недоумении уставилась на нее. Мы, реформисты, Пасху не праздновали. И Нанетта никогда не называла меня «мадемуазель», если мы оставались с нею наедине. Я выглянула в коридор и увидела Бертрана, моего тюремщика из Бастилии, с корзинкой в руках. За его спиной стояли трое дворцовых стражников с суровыми и неприступными лицами.
– Благодарю, Нанетта. Посылка из деревни всегда кстати. – Поднявшись из-за стола, я подошла к Бертрану, который вперил в меня выразительный взгляд своих темных глаз, словно мысленно предупреждая о чем-то. Я улыбнулась ему. – Как приятно увидеть тебя вновь, Бертран. Кажется, деревенский воздух пошел тебе на пользу. Что же передает мне сестра?
– Яйца.
– Яйца! Какая прелесть. Ну, давай посмотрим. – Я подняла салфетку и увидела с десяток ярко раскрашенных яиц, переложенных соломой.
– Солдаты хотели осмотреть корзинку, но Бертран не разрешил им, боясь, что яйца могут разбиться, – нейтральным тоном сообщила Нанетта.
– Да, это было бы сущим несчастьем. Подарок сестры для меня бесценен!
– Мы должны убедиться, что внутри нет никаких изменнических или еретических посланий, – заявил один из солдат. – Этот человек – гасконец, а у драгун возникли большие неприятности в Гаскони.
– В самом деле? Какая жалость. Хотя я не думаю, что вы найдете что-либо еретическое в корзинке с пасхальными яйцами. – Я улыбнулась солдатам, хотя кровь гулко зашумела у меня в ушах.
– Мы должны убедиться в этом.
– Что ж, давайте я сначала выну оттуда яйца.
Опустив корзинку на кровать, я села рядом, постаравшись загородить ее собой. Солдаты с подозрением вытянули шеи, и я мило улыбнулась им и начала осторожно выкладывать на покрывало одно за другим крашеные яйца. Большинство было сварено вкрутую – я чувствовала это по весу, доставая их из корзинки, – но несколько были легкими, как пух, и я услышала внутри слабое шуршание. Достав яйца, я поворошила солому, в которой обнаружился конверт. Я попыталась незаметно достать его, но солдаты уже заприметили и дружно шагнули вперед, заполнив собою все пространство комнаты.
– Это – письмо от моей сестры, – запротестовала я, когда один из них вскрыл его, но они не обратили на меня внимания.
– Здесь написано: «Поздравляю с Пасхой!» – тупо сказал солдат и швырнул записку обратно на кровать. Затем они перевернули корзинку и потрясли, рассыпав повсюду солому. Но больше в ней ничего не было.
– Смотрите, что вы наделали, – стала попрекать их за беспорядок Нанетта. – Вам нравится находить работу бедным старушкам, верно? Ступайте прочь! Прочь отсюда! Глаза бы мои вас больше не видели!
Пока солдаты пятились к выходу, бормоча извинения, я прочла краткую поздравительную открытку, написанную аккуратным знакомым почерком сестры, и принялась вслух восхищаться крашеными яйцами.
– Интересно, а помогала ли сестре моя племянница? – обратилась я к Нанетте. – Должно быть, она уже выросла и стала большой девочкой.
Едва за стражниками захлопнулась дверь, я подбежала к кровати и схватила четыре яйца, которые показались мне пустыми внутри. Осторожно разбив их, я обнаружили внутри скатанные в трубочку полоски бумаги, исписанные с обеих сторон миниатюрным почерком. Их засунули внутрь через дырочки, проделанные с обоих концов, через которые же были выпиты белок и желток. Пока Нанетта собирала солому, я развернула трубочки и обнаружила, что они составляют одно письмо, разрезанное на четыре части. Сестра писала на нашем местном диалекте Гаронны. Подойдя к окну, я стала разбирать ее мелкий почерк:

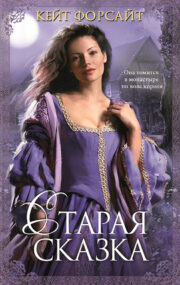
"Старая сказка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Старая сказка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Старая сказка" друзьям в соцсетях.