В своих назойливых поисках в городе теней я открывала главную тень: нацистский амфитеатр, располагавшийся на холме около Гейдельберга. Походы туда стали моим наваждением. Возможно, это происходило помимо моей воли. Я возвращалась туда снова и снова.
Он был построен в 1934 или 1935 году Молодым Рабочим Корпусом (я могла только представлять себе: молодые, здоровые блондины без рубашек на жаре поют «Дойчланд, Дойчланд юбер Алес» и без устали поднимают вверх куски песчаника…) Постройка скрывалась на склоне Гейдельберга, или Святой Горы, где находится хорошо известная гробница Одина. Я добралась до амфитеатра, проехав через реку от старого города вниз по широкой улице, которая ведет к пригороду; потом поднялась на Святую Гору, следуя указателям, к руинам базилики Святого Михаила. Сам амфитеатр не был нигде указан. Дорога петляла вверх через лес, свет рассеивался между деревьями, и я чувствовала себя словно Гретель, внутри страшного серого волка-фольксвагена, но никто не помечал мой путь хлебными крошками.
Пока я поднималась по холму и размышляла о страшных немецких сказках, бросающих напуганных маленьких девочек на произвол судьбы в дремучих лесах, внезапно заглох фольксваген. Опасаясь, что я вот-вот скачусь с горы вниз, я переключила передачи с третьей на вторую и спустя некоторые время застряла снова; в конце концов, я бы выкарабкалась на первой, но этого не пришлось делать, так как я была на вершине.
Там была крохотная башенка, построенная из красного песчаника, с покрытой мхом лестницей с покатыми ступеньками, ведущей к смотровой площадке. Я забралась туда и встала на мыски, чтобы оглядеться вокруг, и это было удивительно прекрасно: виднелся город, сверкала река, розоватые неуклюжие развалины. Почему летописцы Третьего Рейха говорили все о Германии кроме того, что она прекрасна? Прекрасные пейзажи и безобразные люди. Можем ли мы справиться с такой иронией?
Спустившись с башенки, я решила проехать вглубь леса. Через некоторое время я наткнулась на милый маленький ресторанчик Waldschenke (то есть «Лесная таверна») с характерными бюргерами, летом пьющими пиво перед рестораном, а зимой потягивающими подогретое вино с пряностями. Там я оставила машину и двинулась дальше прямо через лес (хруст листьев под ногами, иголки сосновые падали на голову, солнце закрыто листьями). Так как скамьи амфитеатра были расположены прямо на склоне холма, то вход в него был с вершины. Внезапно театр распахнулся предо мной — ряд за рядом, заросшие травой сиденья, литровая бутылка со стаканом, обертки конфет, кожура бананов. В центре был укреплен флагшток — для флага со свастикой или германским орлом.
Но больше всего изумляла окружающая обстановка: гигантская сосновая чаша, притулившаяся в глубине неземного покоя сказочных лесов. Священная земля. Сначала поклонялись Одину, затем Иисусу, а потом Гитлеру. Мне захотелось броситься вниз по рядам скамеек и, стоя в самом центре арены, читать свои стихи лесному эху.
Однажды я сказала Хорсту, что хочу написать об амфитеатре.
— Почему? — спросил он.
— Потому, что все делают вид, что его нет, — ответила я.
— Ты думаешь, это достаточная причина?
— Да.
Я пришла в Гейдельбергскую центральную библиотеку и начала просматривать путеводители. В основном это была тоска зеленая: глянцевые фотографии Шлосса и каких-то одутловатых лиц, скорее всего, политических деятелей. Я не нашла упоминаний об амфитеатре нигде. Я вернулась к началу груды путеводителей, бегло просмотренных мной. Наконец я нашла публикацию 1937 года, в ней в десяти местах или около того оказалась черно-белая фотография какой-то дубовой рощицы. В местах, где были фотографии, бумага была в несколько раз плотнее, как будто сделана из картона. Я пригляделась: маленькие рощицы были приклеены к страницам, однако, как ни хорошо они были приклеены, у нескольких фотографий оказались отогнуты уголки, как будто кто-то пытался отковырнуть их ногтями. Я огляделась вокруг. Я положила книгу в сумочку вместе с четырьмя другими, так что у библиотекаря это не вызовет подозрений. Выйдя из библиотеки, я полетела домой, где, успокоившись, смогла наконец перевести дух.
Было бы интересным узнать, что думал цензор, вычеркивая все это:
Фотография амфитеатра. Ряды забиты людьми в нацистской форме. Развеваются на ветру флаги, руки подняты в нацистском приветствии, солнце отражается от сотен орденов, кажущихся блистающими точками. Это избранные арийской расы.
Абзац, описывающий амфитеатр как «одно из монументальных строений Третьего Рейха, гигантский (так!) открытый театр, построенный для объединения в едином порыве тысяч молодых немцев для празднований и торжеств в атмосфере любви к Отечеству и вдохновения перед красотой Природы».
Абзац, описывающий автобан Гейдельберг-Франкфурт (теперь покореженный и колдобистый) как «гигантское (так!) и грандиозное создание Нового Века, который столь много обещает».
Абзац, описывающий Германию как «нацию, благословенную Богом и занимающую первое место среди Великих и Властных народов…»
Фотография главного зала университета со свастиками, развевающимися в каждой готической арке…
И так далее на протяжении всей книги.
Я бесилась от негодования и гнева. Я села за стол и настрочила яростную статью о честности, бесчестности и всемогуществе истории. Я ставила истину выше красоты. Историю выше красоты, и честность выше всего. Я брызгала слюной и исходила желчью. Я указывала на оскорбительные заплатки в старых путеводителях, как на примеры всего самого одиозного в жизни и искусстве. Я сравнивала их с викторианскими фиговыми листиками на греческих скульптурах, с одеждами девятнадцатого века, намалеванными поверх эротических фресок. Я вспоминала, как Рескин сжег картины Тернера в венецианских борделях; как праправнуки Босуэлла пытались уничтожить непристойные места в его дневниках, и сравнивала это с тем, что немцы стараются сделать со своей собственной историей. Таков грех умолчания! Ни один человек не заслужил того, чтобы его стерли из истории. Даже если он совершал нечто отвратительное, мы можем учиться на этом, не так ли? Действительно, можем? Я никогда не задавала таких вопросов. Только истина — я была уверена — сможет сделать нас свободными.
Следующим утром я двумя пальцами взяла статью с материалами и поехала в центр города к Хорсту. Я бросила все это ему на стол и уехала домой.
Три часа спустя он позвонил.
— Ты действительно хочешь, чтобы я перевел это? — спросил он.
— Да, — постаралась спокойно ответить я, начиная уже закипать от злости, ведь он обещал не подвергать меня никакой цензуре.
— Я сдержу слово, — ответил он. — Но ты молода и не понимаешь немцев.
— Что ты имеешь в виду?
— Немцы любили Гитлера, — произнес он. — Если бы они были честны, ты бы это и услышала, но они не честны. В двадцать пять лет они не были честны. Они никогда не желали убийственной войны, но они любили Гитлера. Они сметали все на своем пути. Даже они сами не знали своих настоящих чувств. Если бы они были честны, ты ненавидела бы больше их, а не их лицемерие.
Потом он начал рассказывать мне, что значило работать в печати при Гитлере. Это было полувоенное положение и все новости цензурировались сверху. Они знали множество вещей, которые держались в тайне и тщательно скрывались от широкой публики. Они знали о лагерях смерти и депортациях. Они знали и продолжали печатать пропагандистские материалы.
— Но как ты мог делать все это? — произнесла я.
— Как я мог не делать это?
— Ты мог бы уехать из Германии, ты мог бы вступить в Сопротивление, ты мог бы сделать что-нибудь!
— Но я не герой, я не хотел быть беженцем. Журналистика — вот моя профессия.
— Ах так!
— Я всего лишь сказал, что многие люди не герои, и многие из людей не честны. Я не говорил, что я хороший или превосходный. Я всего лишь сказал, что похож на всех остальных людей.
— Но почему?! — кричала я.
— Потому, что похож, — ответил он. — Других причин нет.
У меня было гораздо больше вопросов, и Хорст знал это. Я начала удивляться, что тоже похожа на всех остальных людей. Было ли у меня больше мужества, чем у него? Я тогда думала, как долго не смогу писать после этого? Даже без фашизма я была нечестна. Даже без фашизма я сама подвергала себя цензуре. Я не позволяла себе писать о том, что на деле волновало меня: мое самочувствие в Германии, несчастье в браке, сексуальные фантазии, мое детство, мое плохое отношение к моим родителям. Даже без фашизма честность трудно давалась мне. Даже безо всякого фашизма я налепляла воображаемые заплатки на многое в моей жизни и с готовностью отказывалась смотреть туда. Я поняла, что не могу чувствовать себя полностью правой в споре с Хорстом, пока я не научусь быть честной с самой собой. Возможно, наши грехи умолчания были не равны, но побуждающая сила в обоих случаях была одной и той же. До тех пор, пока я вижу доказательства собственной нечестности в моих произведениях, какое я имею право требовать честности от других? Статья была издана так, как я написала ее. Хорст перевел слово в слово. Я думала, что Гейдельберг взлетит на воздух, но писатели часто преувеличивают важность своих работ. Ничего не случилось. Несколько моих знакомых отпустили иронические замечания по поводу того, что я все принимаю слишком близко в сердцу. И все. Я удивлялась тому, что хоть кто-то читает «Гейдельберг Арт унд Нев». Вероятно, никто. Мои статьи были подобны переписке при забастовке почт или тайному дневнику. Я чувствовала, что сильно раздуваю эту историю, но никто даже не моргнул. Весь этот Sturn und Drang потонул в тишине. Это было почти тоже самое, что печатать стихи.
Репортаж с конгресса снов, или Ох уж эти конгрессы
Я — Изадора,
Летайте мной.
Доктор Гудлав председательствовал на заседании. Оно проходило в сыром подвале университета, в лишенном окон амфитеатре с громыхающими деревянными стульями. Адриан натянул свои лучшие английские манеры (равно как и свою старую дырявую рубашку) и заговорил с роскошным английским произношением перед полиглотами-кандидатами, рассыпанными по рядам стульев.
Выглядел он, как Христос на Тайной Вечере. Справа и слева от него сидели одетые в темное аналитики, все при пиджаках и галстуках. Он убежденно вещал в микрофон и, посасывая свою трубку, подводил итоги предыдущей части встречи — ее мы пропустили. Он покачивал босой ногой прямо перед носом слушателей, а его старенькая сандалия отдыхала в это время под столом.
Я дала понять Беннету, что хочу сесть где-нибудь в дальних рядах у двери — как можно дальше от тепла, испускаемого Адрианом. Беннет ответил мне кислым взглядом и с грустью направился к переднему ряду, где нашел себе место подле крашенной хной кандидатки из Аргентины.
Я уселась в последнем ряду и уставилась на Адриана. Адриан уставился на меня. Он облизывал мундштук своей трубки с таким видом, будто лизал меня. Волосы упали ему на глаза. Он отбросил их назад. Волосы упали мне на глаза. Я отбросила их назад. Он приложился к своей трубке. Я приложилась к его призрачному члену. Казалось, что маленькие лучики связывают наши глаза, как в космическом комиксе. И казалось, что маленькие волны тепла связывают наши бедра, как в порнографическом комиксе.
А может, он и не смотрел на меня вовсе?
— …конечно, остается еще проблема полной зависимости кандидата от своего аналитика, — говорил аналитик, сидевший слева от Адриана.
Адриан одарил меня своей улыбкой.
— …полная зависимость может быть сдержана только самостоятельной оценкой реальности со стороны кандидата, которая, учитывая Кафкинскую атмосферу нашего института, может оставаться весьма недостаточной.
Кафкинскую? Мне всегда казалось, что Кафкианскую.
Должно быть, у меня первый случай менопаузы, наблюдаемый у 29-летней женщины. Похоже, начались климактерические приливы. Я чувствую, что лицо багровеет, сердце молотит, как мотор спортивной машины, а в щеки словно вонзаются иголки, как на сеансе акупунктуры. Вся нижняя часть моего тела стала жидкой и медленно стекает на пол. Так что я могу больше не беспокоиться, что мои трусики увлажнились — я растворяюсь.
Я достала записную книжку и накарябала:
— «Мое имя Изадора Зельда Уайт Столеман Винг, — написала я, — и я была бы не против стать Гудлав».
Это я зачеркнула.
Потом написала:
Адриан Гудлав
Доктор Адриан Гудлав
Мистер Адриан Гудлав
Изадора Винг-Гудлав
Изадора Уайт-Гудлав
Изадора Гудлав
А. Гудлав
Мистер А. Гудлав
Леди Изадора Гудлав

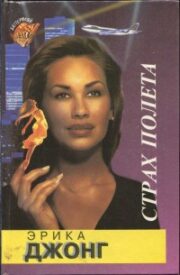
"Страх полета" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страх полета". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страх полета" друзьям в соцсетях.