О, я придумывала немало мифов и о других литературных журналах, но «Нью-Йоркер» был моей гробницей с самого детства («Комментари», например, представлял собой довольно шумное собрание, на котором желчные семиты — со стандартным выражением лица — пугали друг друга еврейским вопросом, проблемой негров и пробуждением сознания, не выпуская из рук чаш с рубленой печенкой и блюд с Нова Скотиа). Эти soirees[39] забавляли меня, но иное дело — «Нью-Йоркер» — журнал, перед которым я благоговела. Поскольку я считала, что никогда не решусь послать туда свои слабые опыты, то было бы ужасно и оскорбительно найти на его страницах имя знакомого мне человека.
Я тогда разделяла всеобщее воззрение на то, что означает быть автором. Я представляла их членами воображаемого братства бессмертных, которые куда выше и светлее всех остальных людей — будто у них невидимые крылышки на лопатках. При встрече они улыбаются друг другу, распознавая себе подобных по каким-то неясным признакам — быть может механизм этот подобен радару летучих мышей. В общем, нет предела человеческой наивности.
Беннет тоже оказался неявно вовлеченным в мой писательский труд, хотя он редко читал написанное мною. Мне тогда не столько был нужен читатель (потому что эта работа была лишь подготовкой к настоящему творчеству), сколько человек, одобряющий мои занятия. Что он и делал. Временами мне было непонятно, что подтолкнуло его к этому: делал ли он это лишь для того, чтобы я не лезла в его депрессию, либо ему нравилось играть Генри Хиггинса для Элизы Дулиттл, то есть для меня. Но тем не менее он поверил в меня раньше, чем я сама в себя поверила. Все происходило так, словно после долгого плохого периода в нашем браке мы неявно сблизились за счет моих произведений. Хоть мы и не читали их вместе, мы оба нашли там общее убежище от окружающего мира.
Мы оба учились впадать в бессознательное состояние. Беннет почти все время проводил, неподвижный, в своей комнате, в сотый и тысячный раз переживая смерть своего отца, смерть деда, все те смерти, которые свалились ему на плечи, когда он только начинал собственную жизнь. Я же сидела у себя и училась писать. Я училась погружаться в себя и отыскивать маленькие осколки прошлого. Я училась ловить бессознательное состояние и выуживать свои, довольно беспорядочные, мысли и чувства. Отдалив меня от своего мира, Беннет открыл мне мой собственный огромный внутренний мир. Постепенно до меня стало доходить, что ни один из предметов моих стихотворений не волнует меня по-настоящему, что глубокая пропасть лежит между тем, что я переживаю, и тем, что пишу. Почему? Чего я боюсь? Мне казалось, что больше всего я боюсь себя.
В Гейдельберге я начала два романа. Оба были написаны от лица мужчин. Я исходила из того, что женская точка зрения мало кого интересует. Кроме того, я не хотела уподобляться большинству писателей-женщин (даже хороших женщин-писателей), о которых говорили: «умные, приятные, яркие, чувствительные, душевные — но начисто лишенные кругозора». Мне хотелось писать обо всех проявлениях жизни. Я хотела написать «Войну и мир» — или ничего. Ни одна из тем «женской литературы» меня не привлекала. Меня тянуло к сражениям, перестрелкам и охоте в джунглях. Только у меня было довольно смутное представление о сражениях, перестрелках и охоте (у большинства мужчин, впрочем, тоже). Тем самым все мои честолюбивые надежды пошли прахом: все те темы, которые были мне более или менее знакомы, оказывались «тривиальными» и «женскими», в то время как абсолютно мне неизвестные как раз и считались «глубокими» и «мужскими». Чтобы я ни делала, я чувствовала себя на краю пропасти: либо меня столкнет туда мною написанное, либо то, что я не пишу. Я оказалась парализованной.
Лишь благодаря удаче, горестям, моим странным отношениям с мужем, моим упорным стараниям (в которые я тогда не очень-то верила), я ухитрилась написать три книги стихов за три года. Я была недовольна двумя, но третью опубликовала. С этого началась серия совершенно новых проблем. Так я научилась справляться с собственной боязнью успеха, что оказалось сложнее, чем с боязнью ошибок.
Если уж я научилась писать, то почему бы мне не научиться жить заодно? Адриан, по-моему, пытался учить меня жить. Беннет, по-моему, пытался учить меня умирать. А я даже не знаю, чего я хочу. А может быть, все наоборот. Может быть, Беннет учил меня жизни, а Адриан — смерти. Может быть, вся жизнь состоит из горестей и компромиссов, а экстаз неизбежно ведет к смерти? Если я могу отличать добро от зла, значит выбор за мной, но передо мной сейчас больше препятствий, чем когда-либо.
Сказки Венского леса
Брачные узы такие тяжелые, что их приходится нести вдвоем — а иногда и втроем.
И веселье началось. Чувство благодарности и долга восстали против моего нынешнего отношения к Беннету, я надеялась, что смогу остановиться, опомниться, наконец, клялась себе, что больше не буду встречаться с Адрианом, что все пройдет, что это наваждение, эта лихорадка перестанет мучить меня — но стоило мне увидеть Адриана, я теряла голову. Моя хваленая воля покинула меня, и, вопреки отвращению, я действовала, повторяя сюжеты попсовых песенок и расхожие клише из худших голливудских мелодрам. Сердце буквально заходилось, меня бросало в жар, и земля уходила из-под ног. Он ослеплял меня, как солнце. Наши сердца рвались навстречу друг другу. Если мы оказывались одни в комнате, меня охватывало такое возбуждение, что мне не удавалось держать себя в руках. Я была поглощена им, мое «я» растворилось в нем без следа. Иначе, как помешательством, это не назовешь. Я начисто забыла о статье, которую намеревалась написать. Впрочем, я забыла обо всем, кроме него.
Все прежние резоны, критерии и установки потеряли для меня какой бы то ни было смысл. Я старалась удержать себя на расстоянии от него, взывала к своей совести, прибегая к таким устоявшимся понятиям, как «супружеская верность» и «прелюбодеяние»; убеждала себя, что этот человек станет между мной и моей работой, что если я заполучу его, то буду слишком счастлива, чтобы писать. Я неустанно напоминала себе, что заставляю страдать Беннета да и, в конце концов, роняю собственное достоинство, теряю самоуважение; что подобный эгоизм заведет слишком далеко. И все напрасно. Я стала одержимой. В тот момент, когда он входил в комнату и улыбался мне, я становилась конченым человеком.
В первый же день конгресса, сразу после ланча, я сказала Беннету, что еду купаться, а сама направилась к Адриану. Мы зашли ко мне в номер, где я захватила свой купальник, вставила мембрану, и, забрав мои прочие причиндалы, поехали в пансион к Адриану.
В его комнате я разделась в мгновение ока и улеглась на кровать.
— Ты что, уже готова? — спросил он.
— Да.
— Бога ради, в чем дело? У нас еще полно времени?
— «Полно» — это сколько?
— Столько, сколько сама захочешь, — амбициозно пояснил он. Короче говоря, если он бросит меня в ближайшем будущем, я сама буду во всем виновата. Все психоаналитики таковы. Мой вам совет, никогда не подпускайте к себе вплотную психоаналитика.
Между прочим, все это получилось довольно неважно. Или, во всяком случае, не очень хорошо. Небрежно скомкав прелюдию любовных ласк, он грубо рвался войти в меня, надеясь, что я не обращу внимания на его резкость. Это глубоко задело меня, вызвав невольное отвращение; было довольно больно и противно; и легкая зыбь наслаждения, подернувшая озеро разочарования, не развеяла последнего. Но, в некоторой степени, я была ему «благодарна». Теперь мне будет легче освободиться от него, думала я в тот момент; «да, любовник он так себе». «Теперь я найду в себе силы разочароваться в Адриане.»
— О чем ты думаешь? — спросил он.
— О том, что мне очень хорошо, и что я полностью удовлетворена.
Я вспомнила, что, слово в слово, говорила эту фразу раньше. Правда, адресовалась она Беннету и была чистой правдой.
— Ты маленькая лгунья и лицемерка. Чего ради ты обманываешь меня? Я знаю, что не смог оттрахать тебя, как должно. Это не самый мой удачный заход.
Я решила поймать его на слове и ударить тем оружием, которое он давал мне в руки.
— О'кей, — глумливо заметила я, — ты не оттрахал меня как следует. Я это признаю.
— Так то лучше. Ну почему ты всегда строишь из себя социального работника. Щадишь мое «эго»?
Он произнес это как «эгг-оо».
Я задумалась. Почему я так поступаю? Пожалуй, я убедилась, что с мужчинами приходится поступать только так. В противном случае они или падают духом, ощущая собственную неполноценность, или теряют рассудок. Так как все мужчины одинаковы, я предпочитаю не доводить до помешательства еще одного.
— Полагаю, я убедилась на опыте, как ранимо «эго» любого мужчины, и, если ты не хочешь привести его в бешенство…
— Ну, мое «эго» не столь ранимо. Я вполне могу принять как объективный факт, что не оттрахал тебя толком, тем более, что так оно и есть.
— Что ж, выходит, мне никогда не попадались такие, как ты.
Он польщенно улыбнулся.
— Не попадались и, клянусь, утеночек, не попадутся. Говорю тебе, я — антигерой. Я явился не затем, чтобы спасти тебя и увезти прочь на белом коне.
Так для чего же он здесь, диву даюсь? Уж наверно не для любовных игр.
Мы отправились к огромному общественному Schwimmbad[40], достигавшему размеров порядочного озера и располагавшемуся в предместьях Вены. Никогда в жизни я не видела такого сборища загоревших дочерна толстяков и толстух. В Гейдельберге я старательно избегала публичных пляжей и бассейнов; и вообще, путешествуя, я держалась подальше от побережий, облюбованных немцами. Тевтоны начисто отравляли своим присутствием прекрасную Тавенто и другие жемчужины истории, природы и архитектуры, превратив их в место своего паломничества. Напротив, я глаз не отводила от гармонично-худощавых рыбаков и рыбачек французской Ривьеры и луноликих и волооких туземок Капри, сохранивших античную прелесть. А здесь-то нас окружали реки пива, глыбы картофеля, тортов с кремом и пончиков, уже преобразованных в жир.
— Словно «Страшный Суд» Микеланджело, — сказала я Адриану. — Последняя фреска в Сикстинской капелле.
Он показал мне язык и скорчил забавную гримасу.
— Эти люди довольны собой и наслаждаются жизнью; теперь они купаются и загорают, а ты подсматриваешь за ними саркастическим оком, видящим только упадок и деградацию в нашем грешном и прекрасном мире. Мне придется переименовать тебя в мадам Савонаролу.
— И ты будешь прав, — задумчиво ответила я.
«Неужели я не могу перестать высматривать все худшее, что есть в мире и оплакивать человеческое несовершенство?»
— Но ведь они словно сошли с фрески «Страшный Суд», — сказала я. — Бог наказал немцев за то, что они ведут себя как свиньи и сделал их похожими на свиней.
И, клянусь Богом, это было правдой: они были не просто заплывшие жиром, с внушительными брюшками, мясистыми, словно ниточками перетянутыми, руками, с двойными и тройными подбородками, отражающими солнечные блики — их тела, в довершение всего, были ярко-розовыми. Ослепительно розовыми. Ярче, чем китайская свинина. И выглядели они, как молочные поросята. Или как подопытная свинья, которую мне пришлось анатомировать, проходя второй раздел зоологии — как раз незадолго до завершения моего пребывания в колледже.
Мы плескались и целовались в воде среди всех этих потерянных и проклятых душ. На мне был черный эластичный купальник с глубоким вырезом, доходящим до живота и привлекавшим всеобщее внимание; женское — очень неодобрительное, а мужское — похотливое. Я почувствовала, как скользкая сперма Адриана вытекает из меня в хлорированную воду бассейна. Американка приносит английское семя немцам. Чем не «план Маршалла»? Ей-Богу, не хуже, чем в древнем мифе про царицу Савскую. Пусть его семя освятит их воду, и они примут крещение, очищаясь от грехов. Адриан-Креститель. А я — Мария Магдалина. Однако я бы удивилась, если бы забеременела, купаясь сразу после соития. Возможно, вода вытолкнула сперму назад… Внезапно я испугалась, что могу забеременеть. И в тот же момент захотела, чтобы так оно и получилось. Я представила себе, какого прелестного ребеночка мы бы сделали вдвоем. Я действительно потеряла голову.
Мы уселись в кресла под деревом и начали потягивать пиво. А еще мы обсуждали наше будущее — если таковое могло быть. Похоже, Адриан считал, что я просто обязана уйти от мужа и поселиться в Париже (где он мог бы периодически навещать меня). Я могу снять мансарду и писать книги. А еще я могу наезжать в Лондон и писать книги вместе с ним. И мы будем как Симона де Бовуар и Сартр: вместе, но независимы. И мы сможем распроститься с такой глупостью, как ревность. Мы будем трахаться друг с другом со всеми нашими приятелями (общими и личными). И тогда мы заживем, не заботясь о собственности и забыв об обладании. Возможно, что в один прекрасный день мы сможем основать коммуну для поэтов, шизофреников и радикальных психоаналитиков. Вместо того, чтобы рассуждать об экзистенциализме, надо жить, как настоящие экзистенциалисты. Все мы соберемся под одной крышей.

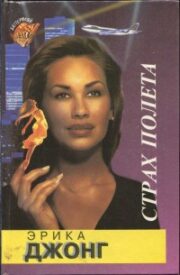
"Страх полета" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страх полета". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страх полета" друзьям в соцсетях.