— Да, когда я сталкиваюсь с комплексами и предрассудками, то стремлюсь их уничтожить. Кстати, это сказала ты, а не я. Сравнение со стервятником прелестно, утенок. А мертвечина — это и ты, и Беннет.
— Думаю, ты походишь на Беннета даже больше, чем тебе бы этого хотелось. Думаю даже, он прекрасно дополняет тебя.
— Пока что не замечал за собой таких странностей, — сказал он, усмехаясь.
— Клянусь, это так.
— Ну, а прикинь, на что похожа ты, утенок. Нечто, стремящееся ускользнуть от настоящей, полнокровной жизни. Нечто, стремящееся к страданиям. Знаю я этот тип. Ни дать ни взять — иудейская мазохистка. Да уж, у меня есть кое-что общее с Беннетом, вот только он — китайский мазохист. Ему пойдет на пользу твой уход. Это наконец-то покажет ему, что так больше жить нельзя; нельзя жить, все время страдая и призывая Фрейда в свидетели!
— Да, но если я так сделаю, то потеряю его навсегда.
— Ну, значит он и не стоит того.
— Что ты хочешь этим сказать?
Но это же ясно. Если он уйдет, значит, он — не для тебя. Если он примет тебя снова — значит, вы начнете новую жизнь. И больше никаких унижений. И не стоит все время манипулировать такими понятиями, как вина. Ты-то ничего не потеряешь. Ну, по крайней мере, мы проведем время так, что это запомнится на всю жизнь.
Я притворилась перед Адрианом, что его слова не задели меня, но это было не так. Задели. И сильно. Обдумывая их, я поняла, что Беннет, пожалуй, знает об этой жизни все, кроме того, что составляет ее приятную часть. Для него жизнь — длительная болезнь, протекающая под присмотром психоаналитиков. Твой жизненный путь проходит через бесчисленные огорчения и приводит к гробу, в котором шесть облаченных в траур психоаналитиков отнесут тебя на кладбище (бросая пригоршни терминов на твою отверстую могилу).
Беннет хорошо разбирался в целостных и ущербных личностях, в Эдиповом комплексе и комплексе Электры, школофобии и клаустрофобии, импотенции и фригидности, в отцеубийствах и материубийствах, знал о зависти, направленной на пенис или на матку, работал над свободными ассоциациями и оговорками, над утренней меланхолией, внутренними конфликтами и подсознательными копорликтами, носологией и этиологией, старческим слабоумием и слабоумием младенческим, перенесением образов, самоанализом и групповой терапией, над симптомами формирования и симптомами разрушения, над состояниями амнезии и фуги, парапсихологическими рыданиями и смехом во сне, был специалистом, способным объяснить сонливость и бессонницу, неврозы и психозы, корни которых скрыты в далеком прошлом, но понятия не имел о смехе и шутках, каламбурах и загадках, объятиях и поцелуях, пении и танце — словом, обо всех тех вещах, которые делают жизнь достойной того, чтобы жить. Будто человек может быть счастлив, если проанализирует свои поступки, сны, мысли и побуждения. Будто можно обойтись без смеха и жить одним только психоанализом. Адриан — весельчак и гедонист, вот за одно это я и готова продать свою душу.
Улыбка. Кто же сказал, что улыбка — загадка этой жизни? Адриан, словно античный бог гармонии и смеха. С ним я все время смеюсь. Когда мы вместе, то чувствуем, что можем завоевать весь мир, смеясь.
— Ты должна его бросить, — сказал Беннет, — и вернуться к психоанализу. Он плохо на тебя влияет.
— Ты прав, — сказала я. «Господи, что же я такое говорю?» Ты прав, ты прав, ты прав. Беннет прав; Адриан прав тоже. Мужчин всегда восхищал мой покладистый нрав. Впрочем, не одни только губы соглашались. Стоило мне высказаться вслух и я действительно принимала все, что сказала.
— Вернемся в Нью-Йорк, как только кончится конгресс.
— О'кей, — сказала я, согласившись с ним.
Я смотрела на Беннета и думала, как хорошо я его знаю. Временами он серьезен и печален почти до безумия, но за это-то я и люблю его. Ему просто необходимо чувствовать зависимость. Он свято верит, что жизнь — загадка, которую можно разрешить посредством усердной работы, четких определений, анализа и синтеза. И я разделяю с ним его взгляды и убеждения так же чистосердечно, как и делила смех и гедонизм с Адрианом. Я любила Беннета и знала об этом. А еще я знала, что моя жизнь — с ним, а не с Адрианом. Так что же неудержимо тянет меня покинуть его и уйти с Адрианом? И почему доводы Адриана пронимают меня до мозга костей?
— Ты можешь заводить романы, не ставя меня в известность, — предупредил он. — Я дам тебе достаточно свободы.
— Знаю.
Я качнула головой.
— Ты действительно делаешь это для моего блага, так ведь? Ты, должно быть, очень зла на меня?
— Между прочим, он почти всегда импотент, — сказала я. Теперь я предала обоих. Я поведала Адриану секреты Беннета. А Беннету — секреты Адриана. Разглашаю всю подноготную мужчин, с которыми близка… В довершении всего, я предаю самое себя. Хороша же я; да уж, показалась обоим во всей своей красе. Ну и где же моя терпимость? Лучше умереть. Смерть — единственное справедливое воздаяние предателям.
— Я догадывался, что он импотент, или, быть может, гомосексуалист. В любом случае ясно, что он ненавидит женщин как таковых, причем очень сильно.
— Как ты узнал?
— От тебя.
— Беннет, ты знаешь, что я люблю тебя?
— Да, и это только усугубляет все дело.
Мы стояли, не сводя глаз друг с друга.
— Иногда я чувствую, что устала от постоянной серьезности. Я хочу смеяться. Я хочу веселиться.
— Я догадывался, что моя мрачность доведет до предела кого угодно, — сказал он огорченно. А потом перечислил всех девушек, не выдержавших его мрачного характера. Я знала всех их поименно. Теперь я обняла его за шею.
— Я могу гулять на стороне, не ставя тебя в известность; я знаю массу женщин, которые так и делают… (В действительности, я знаю только трех, которые постоянно существовали таким образом). — Но, честно говоря, так будет еще хуже. Вести двойную жизнь и возвращаться к тебе домой, делая вид, что ничего не случилось. Легко сказать, но сделать — очень трудно. По меньшей мере, я этого не выдержу.
— Кажется, мне следовало понять, как одинока ты была, — сказал он. — Возможно, в этом виноват я сам.
А потом мы любили друг друга. Я не притворялась, говоря, что Беннет, и никто другой, может удовлетворить меня вполне. Беннет есть Беннет, и я его хотела.
Позже я подумала, что он был неправ. Брак был моей ошибкой, и потерпел провал по моей вине. Если бы я любила его как следует, я бы позаботилась о его спокойствии и приняла бы его таким, какой он есть, вместо того, чтобы отвергать все его изъяны и избегать всех мрачных сторон его характера.
— Нет ничего сложнее брака, — сказала я.
— Думаю, я сам довел тебя до этого, — отозвался он. И мы заснули.
Он стал таким ласковым, терпимым и понимающим только для того, чтобы усугубить мое чувство вины. Господи, какая же я плохая!
— Ну, что нового? — поинтересовался Адриан.
Мы облюбовали новый бассейн в Гринцинге, прелестное маленькое озерцо, окруженное относительно немногими немецкими толстяками и толстухами. Мы сидели, свесив ноги в воду, и потягивали пиво.
— Я зануда? Я повторяю одно и тоже? — Риторические вопросы.
— Да, — подтвердил Адриан, — но мне нравится твое занудство. Оно более забавно, чем у прочих.
— Мне нравится, как непринужденно мы можем обсуждать все, что угодно. Я никогда не забочусь о том впечатлении, которое могу произвести на тебя. И высказываю все, что думаю.
— Неправда. Только вчера ты уверяла, какой я потрясающий любовник, хотя это было совсем не так.
— Ты прав.
С этим трудно не согласиться.
— Но я понимаю, что ты хочешь сказать. Мы хорошо говорим. Без намеков и недомолвок. Эстер частенько ехидно замолкает, а я во время этих пауз не знаю, о чем она думает. Но ты открыта. Ты постоянно противоречишь сама себе. И я точно такой же. Человек есть человек.
— Беннет, бывает, надолго замолкает. Временами я начинала думать, что он противоречит сам себе, но для этого он слишком совершенен. Он никогда не выскажет то или иное замечание, не будучи уверенным в его окончательности и несомненности. Ты не способен жить так — пытаясь все время быть определенным и законченным — ведь только смерть окончательна.
— Давай-ка окунемся еще раз, — сказал Адриан.
— За что ты так сердишься на меня? — спросил Беннет после этой вылазки к бассейну.
— Потому, что я чувствую, что ты относишься ко мне, как к собственности. Потому, что ты сам сказал, что не можешь проникнуть в мои мысли. И еще ты никогда не говорил, что любишь меня. Ты никогда не проявляешь снисходительности ко мне. И винишь меня во всех своих неудачах. Потому, что ты продолжаешь играть в молчанку, хотя и знаешь, что это нервирует меня. Потому, что ты поносишь моих друзей, подходя к ним со своими мерками. Потому, что ты замыкаешься в себе, отметая все человеческие контакты. Потому, что ты вызываешь у меня такое ощущение, словно я замучена до смерти.
— Тебе приходилось отбиваться от свой матери, а не от меня. Я дал тебе ту полноту свободы, которая была тебе нужна.
— Ты себе противоречишь. Личность не может быть свободна, если свободу ей «дают«. Кто ты, чтоб «дать«мне свободу?
— А ты покажи мне хоть одного человека, свободного полностью и беспредельно? Кто он? А он вообще существует? Тебя угнетали собственные родители, а не я! Ты всегда обвиняешь меня в том, что сделала с тобой твоя мать.
— Стоит мне начать укорять тебя, как ты извлекаешь очередные психоаналитические мотивы из моего поведения. И каждый раз мой отец или мать — а не что-то касающееся нас с тобой. Неужели они всегда будут стоять между нами?
— Мне бы этого не хотелось. Но это так. Ты снова и снова переживаешь свои детские впечатления, признаешься ли ты себе в том, или нет, — что за черт тебя свел с Адрианом Гудлавом? А ведь он выглядит совсем, как твой отец — или ты не обратила на это внимание?
— Не замечала. Он вовсе не похож на моего отца.
Беннет фыркнул. — Это, в конце концов, смешно.
— Послушай — я ведь не спорю о том, похож он на моего отца или нет, но это первый раз за все время, когда ты выказываешь хоть какой-то интерес ко мне и действуешь, наконец так, словно все-таки любишь меня. Мне надо трахаться с кем-то прямо у тебя под носом, чтобы ты разозлился на меня? Забавно, правда. А что говорят твои психоаналитические теории про этот случай? Может быть, здесь выходит на поверхность твой собственный Эдипов комплекс. Может быть, я твоя мать, а Адриан воплощает твоего отца. А почему бы нам не собраться всем вместе и не обсудить это, как полагается славной семейке? Вообще-то, я думаю, что Адриан влюблен в тебя. А я просто стою между вами. Уж если он кого-то и хочет, так это тебя.
— Ну что же, меня это не удивляет. Я уже сказал тебе, что он похож на голубого.
— А почему бы нам всем не улечься спать вместе и не выяснить это?
— Спасибо. Но не заставляй меня останавливать тебя, если это именно то, чего ты хочешь.
— Нет, не хочу.
— Ну так иди же, — закричал Беннет с большей страстью, чем я могла заподозрить в нем. — Уходи с ним! Ты никогда снова не примешься за серьезную работу. Я единственный человек в твоей жизни, который смог поддерживать тебя в равновесии и собранности достаточно долго — ну так уходи! Ты измотаешь себя так, что даже не будешь годна к мало-мальски серьезной работе.
— Как ты рассчитываешь написать о чем-либо интересном, боясь любых новых впечатлений? — поинтересовался Адриан. Я только что заявила ему, что не могу уйти с ним и возвращаюсь домой с Беннетом. Мы сидели в машине Адриана, припаркованной на узкой улочке, прямо за университетом. (Беннет был на заседании, посвященном агрессии в больших коллективах).
— Я все время обретаю новые впечатления. В этом-то и беда.
— Чушь. Ты трусливая маленькая принцесса. Я предлагаю тебе такие впечатления, которые действительно могут радикально изменить тебя; то, о чем ты действительно можешь написать в своих книгах, а ты уходишь в сторону. Назад к Беннету и в Нью-Йорк. Назад к твоему маленькому, затхлому и безопасному мирку. Господи, я рад, что не женился еще раз, если в этом и заключается семейная жизнь. Я-то думал, что ты уже переросла все это. Прочитав все твои эротические и чувственные произведения — в извращенном ключе — я был о тебе лучшего мнения.
Он взглянул на меня с презрением.
— Если бы я все время пребывала чувственной и эротичной, то была бы слишком утомлена, чтобы писать об этом, — парировала я.
— Ты обманщица, — сказал он, — жуткая лгунья ты. Ты никогда не найдешь ничего достойного того, чтобы об этом написать, если не вырастешь. Мужество — это во-первых. А ты просто трусиха.

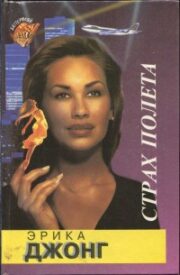
"Страх полета" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страх полета". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страх полета" друзьям в соцсетях.