Вот фотография его знаменитого кабинета, с покрытой восточным ковром кушеткой для пациентов, с египетскими и китайскими фигурками, с фрагментами древней скульптуры… но самого этого кабинета уже не существует, он исчез, как исчезла целя эпоха в 1938 году. Как все-таки странно делать вид, что Фрейд и не уезжал отсюда и что с помощью нескольких пожелтевших от времени фотографий можно заново создать целый мир. Это напомнило мне мою поездку в Дахау: на месте крематория зеленеет трава, и кудлатые немецкие дети бегают, смеются, устраивают пикники. «Вы не можете осуждать целую страну за двенадцать лет ее истории», — говорили мне в Гейдельберге.
Так что мы осматривали странные, однообразные комнаты, остатки личного имущества Фрейда, его медицинский диплом, его военный билет, его ходатайство о присвоении профессорского звания, его контракт с каким-то издателем, список его публикаций, приложенный к ходатайству о повышении в должности. Потом мы ознакомились с фотографиями: Фрейд с сигарой в руке, Фрейд с внуком, Фрейд с Анной Фрейд, Фрейд в Лондоне незадолго до смерти, опирающийся на плечо жены, молодой Эрнст Джонс с поразительным по красоте юным лицом, Шандор Ференчи, надменно взирающий на мир (фото примерно 1913 года), Карл Арахам, славившийся мягким обхождением и выглядящий соответственно, Ханс Саш, похожий на Роберта Морли, und so weiter[44].
Мы послушно переходили от одного стенда к другому, обдумывая при этом нашу собственную дурацкую историю, которая еще находилась на стадии написания.
Мы неторопливо позавтракали вместе, снова и снова пытаясь убрать разрушения предыдущего вечера. Я давала себе слово, что никогда больше не увижу Адриана. Мы с Беннетом обращались друг с другом со всей возможной предупредительностью. Мы соблюдали осторожность и не касались тем, имеющих отношение к случившемуся. Вместо этого мы рассказывали друг другу всякие истории про Фрейда. Эрнст Джонс писал, что Фрейд совершенно не способен был понять характер человека, он был плохой Menschenkenner[45]. Эта черта — некоторая наивность в восприятии людей — часто сопровождает истинного гения. Фрейд обладал способностью проникать в тайны снов и одновременно обманываться по поводу обычного заурядного человека. Он мог изобрести психоанализ, но продолжал упрямо верить в людей, которые его предавали. К тому же он был крайне неосмотрителен. Он часто разбалтывал чужие секреты, доверенные ему, беря при этом слово молчать с тех, кому он их передавал.
Неожиданно мы поняли, что опять говорим о себе. В тот день не существовало нейтральных тем для разговора. Все замыкалось на нас.
После завтрака мы снова пошли в Хофбург послушать доклад по психологии художников. В докладе посмертно подверглись анализу Леонардо, Бетховен, Кольридж, Вордсворт, Шекспир, Донн, Вирджиния Вулф и неизвестная, не названная по имени женщина-художник, исследованная психоаналитиком. Все его доводы убедительно доказывали, что художники, как тип — слабы, зависимы, инфантильны, наивны, склонны к мазохизму, нарциссизму, не разбираются в людях и безнадежно погрязли в Эдиповом комплексе. В детстве они крайне чувствительны и нуждаются при этом, более чем остальные, в материнской заботе, постоянно ощущают себя обделенными, как бы их ни опекали в действительности. Во взрослой жизни они обречены повсюду искать матерей и, не найдя их (нигде, нигде), пытаются изобрести идеальных матерей, выдумывая их в своей работе. Они стараются превратить реальную историю своей жизни в идеализированный образ — пусть даже эта идеализация выглядит в итоге брутализацией. Короче говоря, отсутствие семьи — такое же трансцендентальное зло, как и современный романист-автобиограф, воображающий, какой могла бы быть его семья. В пух и прах разнести чье-нибудь семейство — все равно что идеализировать его. Это доказывает, как сильно человек связан со своей семьей.
И жажда славы у художника также связана с желанием вознаградить себя за ощущение обделенности в детстве. Но ничего у них не выходит. Любовь всего мира не заменит любви одного человека, который любит тебя, когда ты еще ребенок, кроме того, весь мир не способен любить. Так что слава приносит разочарование. Многие художники от отчаяния обращаются к опиуму, алкоголю, к гомосексуальному разврату, гетеросексуальному разврату, религиозному фанатизму, политическому морализаторству, самоубийству и другим паллиативам. Но и это не помогает. Кроме, правда, суицида — это средство проверенное. В связи с этим я вспомнила эпиграмму Антонио Порчиа, которую психоаналитик процитировать не догадался:
Я верю, что душу составляют ее страдания,
Ибо душа, избавившись от страданий, умирает.
Так и с художниками. Даже хуже.
Пока на нас изливались все эти доказательства слабости, зависимости, наивности и т. д. художников, Беннет сжимал мою ладонь в своей и посылал мне пронизывающие взгляды. Возвращайся домой, к папочке. Все ясно. Как я хотела бы вернуться домой, к папе! Но как я, в то же самое время, хотела быть свободной! «Свобода — это иллюзия», — говорил Беннет (соглашаясь в этом с Б.Ф. Скиннером), и в чем-то я была с ним согласна. Чистота, умеренность, напряженный труд, стабильность… в это я тоже верила. Но что за голос внутри меня все время шептал мне о сексе нараспашку, о несущихся вперед автомашинах, о влажных поцелуях и постоянном ощущении опасности? Что за голос кричал мне «трусиха!» и заставлял меня сжигать мосты, глотать яд одним махом, вместо того, чтобы пить его по капле, нырять на самое дно своего страха, чтобы узнать, сумею ли я вынырнуть?
Да и был ли это голос? Или это был глухой шум? Нечто более примитивное, чем речь. Какой-то стук внутри меня, который я называла «гул-голод». Похоже было, что мой желудок вообразил о себе, что он — сердце. И не имело значения, чем я заполню его — мужчинами, книгами, пищей, печеньем с корицей в форме мужчины или стихами в форме мужчин или мужчинами в форме стихов — он отказывался успокаиваться. Я была незаполняема. Ненасытна. Нимфомания мозга. Голод сердца.
Что это стучит во мне? Барабан? Или целый синтезатор? А может, это воздух в натянутой шкуре? Или звуковая галлюцинация? Или лягушка? Ведь она мечтает о принце! Или думает, что она-то и есть этот принц. А может, я голодаю по жизни?
Закончился доклад о художниках, и мы зааплодировали со своих рахитичных стульчиков с золотыми спинками, почтительно привстав, и при этом зевая.
— Нужно взять копию этого доклада, — сказала я Беннету.
— Не нужен он тебе, — ответил он. — Это история твоей жизни.
Должно быть, мне следовало воспрепятствовать чтению второй части доклада по художникам (автором его, как я припоминаю, был некий доктор Кенигсбергер). Эта часть касалась любовной жизни художников, а точнее, их стремления замыкаться в себе (с патологической склонностью к совершенно неподходящим «объектам страсти» и неистовой их идеализацией, как если бы это были идеализированные родители, которых, как они считали, у них никогда не было). Эти неподходящие «объекты страсти» были в значительной степени проекцией их собственной личности. В действительности в глазах всех остальных «объект страсти» часто выглядел совершенно обыкновенным. Но для влюбленного художника возлюбленный становился матерью, отцом, музой, воплощенным совершенством. Порой это было олицетворение какого-то средоточия сволочизма или средоточия зла, но всегда неким демоном, часто наделенным всемогуществом.
Доктор Кенигсбергер задался целью узнать, какова была творческая цель этих увлечений. Мы напряженно пытались это понять. Смоделировав ситуацию Эдиповой страсти, художник может воссоздать идеализированный мир детства. Бесчисленные и часто стремительно сменяющие одно другое увлечения художников направлены на то, чтобы поддерживать эту иллюзию. Каждое новое более сильное увлечение — это мощнейшее нагнетание страсти, на которое только способен во взрослой жизни тот, кто ребенком пережил страсть к родителю противоположного пола.
Пока читали доклад, Беннет ухмылялся. А я все больше мрачнела.
Данте и Беатриче. Скотт и Зельда. Гумберт и Лолита. Симона де Бовуар и Сартр. Кинг Конг и Фэй Урэй. Йейтс и Мод Гонне. Шекспир и Смуглая Леди. Шекспир и мистер У.Х. Аллен Гинзбург и Питер Орловски. Сильвия Плат и Грим Рипер. Китс и Фанни Браун. Байрон и Августа. Доджсон и Алиса. Д.Х. Лоуренс и Фрида. Ашенбах и Тадзио. Роберт Грейвс и Белая Богиня. Шуман и Клара. Шопен и Жорж Санд. Оден и Кальман. Хопкинс и Святой Дух. Борхес и его мать. Я и Адриан?
В тот же день, в четыре часа пополудни мой идеализированный «объект страсти» явился на заранее назначенную встречу, которая должна была состояться в другом зале в стиле барокко. Дело близилось к развязке. Завтра Анна Фрейд и команда прославленных психоаналитиков снова взойдут на кафедру и подведут итоги конгресса для прессы, участников, для слабых, заторможенных и слепых. Потом конгресс закончится и мы уедем. Но кто с кем останется? Беннет со мной? Адриан со мной? Или мы все вместе втроем? Три аналитика в одном тазу пустились по морю в грозу…
Встреча, на которую отправился Адриан, имела отношение к следующему конгрессу и, скорее всего, была прескучной. Но я даже и не пыталась прислушиваться. Я переводила взгляд с Беннета на Адриана и обратно, тщетно пытаясь сделать выбор. От этого я пришла в такое отчаяние, что через десять минут вынуждена была вскочить с места и выйти в коридор. Я хотела побыть наедине с собой. Волею судеб я встретила моего немецкого психоаналитика доктора Хоппе. Он в это время душил в объятиях Эрика Эриксона, как мне показалось, после оживленной дружеской беседы. Хоппе поприветствовал меня и спросил, не хочу ли немного поболтать с ним. Мы поболтали.
Профессор, доктор медицины Гюнтер Хоппе был долговязым и худым человеком с крючковатым носом и космами кудрявых светлых волос. В Германии он был знаменит, поскольку часто мелькал по телевизору, писал статьи для популярных журналов и известен был как непримиримый враг неонацизма. Он был одним из тех радикалов, отягощенных виной немцев, которые провели период нацизма в эмиграции, в Лондоне, и вернулись позже, с намерением избавить Германию от тотального скотства. Он был из тех немцев, каких редко встретишь: смешливых, скромных, критически настроенных к Германии. Он регулярно читал «Нью-Йоркер» и посылал деньги Вьетконгу. Он произносил глагол «думать» как «тумать» и «бизнес» как «бизинез», но ни в коем случае не походил на комических немцев из фильмов.
Когда я начала посещать дом Хоппе в Гейдельберге — плохо отапливаемый, с высокими потолками, — и четыре часа в неделю проводить лежа на кушетке в его кабинете, мне было двадцать четыре года, и я пребывала в совершеннейшей панике. Я боялась садиться в попутные машины, писать письма, вообще что-либо писать. Я с трудом могла поверить, что когда-то публиковала стихи, что имею степени бакалавра и магистра со всеми причитающимися причиндалами. И хотя друзья завидовали моей всегдашней веселости и спокойствию, в душе я таила страх практически перед всеми сторонами жизни. Оставаясь одна на ночь, я осматривала все кладовки перед тем, как лечь спать. Но даже после этого заснуть мне не удавалось. Целые ночи напролет я лежала, не сомкнув глаз, думая о том, что и второго мужа доведу до сумасшествия или что мне обязательно будет так казаться.
Одним из самых изощренных моих самоистязаний было написание писем. Точнее говоря, ненаписание писем, особенно делового характера. Если (как случилось пару раз) какой-нибудь издатель направлял мне письмо с просьбой прислать мои стихи, я впадала в крайнюю степень отчаяния. Как отвечать? Как отреагировать на такую сложную просьбу? Из каких фраз составить письмо?
Один из таких запросов пролежал на моем столе два года, прежде чем я решилась. Я попыталась написать сначала начерно. «Дорогая миссис Джонс», — начала я. Стоп. Не слишком ли это самонадеянно? Может, нужно просто: «Миссис Джонс», а «дорогая» звучит подобострастно? А может, вообще без обращения? Просто прислать стихи и все? Нет. Это слишком грубо.
Можете себе представить, с каким содроганием я приступала к остальному тексту, если мне с таким трудом далось приветствие!
Благодарю Вас за Ваше любезное письмо с просьбой прислать материал. Однако…
Нет, не так! Слишком угодливо. Ее письмо вовсе не было «любезным» и не обязано быть таким. Я лизоблюдничаю, выражая ей благодарность. Лучше быть самоуверенной и напористой.
Я только что получила Ваше письмо с просьбой прислать мои стихи, отобранные по моему усмотрению…
Слишком самовлюбленно! (Я скомкала еще один лист бумаги.) Я где-то читала, что письмо ни в коем случае нельзя начинать с личного местоимения. К тому же, как я могу писать «только что получила», когда с того времени прошел год? Рискну еще раз.
Ваше письмо от 12 ноября 1967 года я обдумывала длительное время. Мне очень жаль, что я не ответила Вам сразу, но…

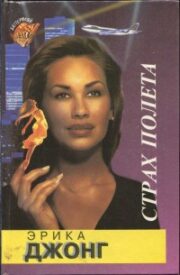
"Страх полета" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страх полета". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страх полета" друзьям в соцсетях.