Не изображаю ли я его слишком неотразимым? Некоторые считали его таковым. Но все находили его забавным. Он был прирожденным клоуном, героем водевиля, записным говоруном. Казалось, он всегда так и лучится энергией. За день он успевал сделать столько, сколько другие не сделали бы и за десять, и всегда казалось, что он вон из кожи лезет. Естественно, в моих глазах это выглядело привлекательным — с моим «гулом-голодом», с моим неутолимым аппетитом к любым переживаниям. Мы встретились, когда я была на первом, а он на втором курсе, и с тех пор почти не разлучались. Да, конечно, за мной сохранялась свобода встречаться время от времени с другими, но он полагал, что я должна быть так переполнена его существованием, его присутствием, его разговорами, его подарками, его помощью в напечатании моих курсовых, его помощью в библиотечной картотеке, его письмами, звонками, цветами, стихами, посвященными мне, — что другие парни неизбежно будут казаться жалким его подобием.
В те дни столпотворения Шутов и Интеллектуалов, Проповедников Братства и Независимости, Брайан не подпадал ни под одну категорию и одновремено подпадал под все. Он был оригиналом, героем, кладезем знаний по любому предмету, кроме, пожалуй, секса, где его сведения были скорее теоретическими, чем практическими. Мы потеряли девственность одновременно и вместе. Или почти вместе. Я говорю «почти», потому что мне представляется сомнительным сохранение девственности после многих лет напряженной дрочки пальцем и регулярных мастурбаций, а Брайан в шестнадцать лет посетил публичный дом в Тиджуане — таков был подарок его отца на день рождения. Его папаша завез в публичный дом всю компанию зеленых юнцов — гостей Брайана, чтобы продолжить молодежный вечер таким оригинальным способом.
Как рассказывал Брайан, он потерпел полное фиаско. Шлюха все время твердила: «Давай, давай, быстрее!», и у Брайана не встал член, и тогда его отец (Эдипова историйка) вздрючил ее первым. При этом дружки Брайана все время ломились в дверь. Ничего общего с обрядом инициации это не имело: введение, как пишут в книгах по технике секса, произошло не полностью. Так что, надо думать, мы все-таки потеряли невинность вместе. Мне было семнадцать лет (и я была все еще «находка для шпиона», как оригинально заметил Брайан), а ему — девятнадцать. Наше знакомство продолжалось два месяца, и это были два месяца насилия над нашими инстинктами в Парке Риверсайда, под столами библиотеки классики, где мы «вместе занимались» (под неусыпным наблюдением подслеповатых глаз Софокла, Перикла и Юлия Цезаря), на кушетке в гостиной моих родителей, в хранилище Батлер-библиотеки (где, как я с ужасом узнала позже, сношались некоторые студенты-богохульники). Наконец, мы оказали друг другу «крайнюю любезность» (если воспользоваться очаровательным выражением XVIII века) в квартире Брайана на Риверсайд-Драйв, где тараканы, или, может, это были жуки-плавунцы, были размером с мой кулак (или его пенис), а два брайановых соседа по комнате барабанили в дверь под предлогом того, что им срочно понадобился номер «Санди Таймс», «если мы уже закончили».
Комната Брайана — одна из шести в этом неряшливом подвале — имела общую стену с бойлером. И это был единственный источник тепла. Одна из стен была раскалена, другая — холоднее, чем ведьмина сиська (выражение Брайана). Температуру можно было отрегулировать одним способом — открыв окно (выходившее на что-то вроде зацементированного оврага, расположенного ниже тротуара) и напустив холодного воздуха. Поскольку ветер дул с реки, он был достаточно прохладен, чтобы одолеть жар бойлера — но не наш пыл.
Мы впервые насладились друг другом в романтической обстановке. Под нами визжали пружины кровати б/у, которую Брайан — весь трепеща от предчувствий — приобрел двумя неделями раньше у пуэрториканского старьевщика на Коламбус-Авеню.
В конце концов, само собой, мне пришлось его обольстить. Я голову даю на отсечение, что с тех пор, как произошло грехопадение, так было с каждым. Потом я плакала и чувствовала себя виноватой, и Брайан успокаивал меня, как мужчины обычно успокаивают девственниц, которые век за веком этих мужчин соблазняют. Мы лежали при свете свечи (романтически настроенный, а может, обладавший врожденной потребностью символизировать происходящее, Брайан зажег тоненькую свечку на ночном столике, прежде чем мы раздели друг друга) и слушали вопли бездомных котов в цементном колодце под закопченным окном. Иногда какая-нибудь кошка вскакивала на доверху забитый мусором контейнер и сбрасывала на землю пустую жестянку из-под пива, и звук катящейся по тротуару банки эхом отдавался в комнате.
Вначале наш роман был таким милым и духовным, юношеским. (Это уже потом мы стали больше специализироваться по диалогам а-ля пьесы Стринберга). В постели мы читали друг другу стихи, обсуждали разницу между жизнью и искусством, гадали, стал бы Йейтс великим поэтом, если бы Мод Гонне вышла за него замуж. Весна застала нас за изучением курса по Шекспиру, что, как я предполагаю, происходит со всеми юными влюбленными. Одним ясным, но холодноватым апрельским днем мы вслух читали друг другу «Зимнюю сказку», сидя на скамейке Риверсайд-Парка.
Поля расцветают — юххей, юххей! —
Красотки, спешите ко мне!
И воздух теплей, душа веселей —
Мы рады зеленой весне.
Малиновка свищет — юххей, юххей! —
Кричат «тира-лира» дрозды.
Мне любо их слушать с подружкой моей,
Забравшись подальше в кусты.
Брайан с увлечением отвечал моей Утрате за Флоризеля, когда целый выводок уличных мальчишек — черных и пуэрториканцев, восьми-девяти лет, привлеченных нашим чтением, расселся на скамейке и траве вокруг нас, как будто приготовившись смотреть спектакль.
Один из детишек сел прямо у моих ног и уставился на меня с обожанием. Я оцепенела. Так вот какова сила поэзии — языка, понятного во всей Вселенной. Что-то такое есть в Шекспире, что смогло привлечь даже самое наивное, самое неразвитое ухо! Все мои убеждения казались мне неопровержимыми, и я начала читать, преисполненная новым вдохновением:
И что же? Ведь природу улучшают
Тем, что самой природою дано.
Искусство тоже детище природы.
Когда мы к ветви дикой прививаем
Початок нежный, чтобы род улучшить,
Над естеством наш разум торжествует,
Но с помощью того же естества.
(Шекспир как будто призвал к братанию всех рас!)
Дети через несколько страниц начали проявлять нетерпение, а потом стало слишком холодно сидеть на одном месте, так что мы сложили вещи и вслед за ними быстро ушли.
— Здорово было, да? — спросила я, когда мы выходили из парка. Брайан захохотал.
— Vox populi[50] — главным образом хрюканье, — изрек он.
Это была одна из его любимых максим, не знаю, откуда он ее взял. Позже я обнаружила, что из сумочки, которая лежала на скамейке открытой, пока мы читали, исчез бумажник. Я не уверена, что его украли детишки или что я потеряла его раньше и не заметила. На мгновение в мою голову закралась сумасшедшая мысль, что Брайан мог незаметно взять у меня этот кошелек, чтобы доказать свое положение о «гласе народа». Брайан был, как и моя мать, скептиком. До того момента, как он решил, что он — Иисус Христос и несет с собой свет убежденности и веры.
Каковы были первые признаки его безумия? Трудно сказать. Его давняя приятельница по колледжу рассказывала мне, что с самого начала поняла: с Брайаном происходит что-то странное и «связываться с ним опасно». Но мне-то нравилась как раз эта странность Брайана. Он был эксцентричен, ни на кого не похож, смотрел на мир глазами поэта (хотя поэтического таланта в нем самом не было). Он видел Вселенную одухотворенной, обитаемой духами. С ним говорили фрукты. Когда он чистил яблоко, он видел, что оно плачет, чревовещая. Он считал, что и мандарины, и апельсины, и даже бананы способны чревовещать. Он говорил, что они умеют петь и говорить, и даже декламировать стихи.
Он умел изменять свой голос и лицо, смотря по настроению. Иногда он бывал Эдвардом Г. Робинсоном в роли Аль Капоне, иногда — Бэзилом Рэтбоуном в роли Шерлока Холмса, иногда Гримфальконом Эльфом (персонаж, придуманный нами вместе), иногда Шейквуфом (еще один воображаемый наш приятель, частично Шекспир, частично собака — что-то вроде «поэтофаунда»)… Долгие дни и ночи, проведенные нами вместе, были наполнены всякими забавными правилами, перевоплощениями, розыгрышами. Все это в основном придумывал Брайан. А я была этаким благодарным слушателем. Мы гуляли, гуляли, гуляли и гуляли — от Колумбии до Виллиджа, через Бруклинский мост (разумеется, цитируя Харта Крейна), а потом обратно — на Манхэттен. И никогда нам не бывало скучно вдвоем. Никогда нам не случалось молчаливо и мрачно сидеть за ресторанным столиком, как некоторые молодожены. Мы всегда болтали и смеялись.
И так было, пока мы не поженились. Брак сломал все. Четыре года быть влюбленными, лучшими друзьями и специалистами по Шекспиру, — и все это коту под хвост. Я к браку не стремилась никогда. Мне всегда казалось, что для этого у меня будет уйма времени в будущем. В весьма отдаленном будущем. Но Брайан хотел завладеть моей душой. Он боялся меня потерять. И предъявил мне ультиматум. Выйди за меня замуж, а иначе мы расстанемся. А я так боялась разлуки с ним, и одновременно так жаждала поскорее уйти из дому, и только что окончила колледж, и совершенно не имела понятия, чем, черт возьми, заняться еще, — словом, я вышла за него замуж.
Оказалось, что нам совершенно не на что жить, кроме моей стипендии, некоторого н. з., который я не имела права тратить несколько лет, и небольших, быстро истаявших накоплений, подаренных мне родителями на совершеннолетие. Брайан, возмущенный низкой платой, уволился из колледжа и изо всех сил подыскивал работу. Наша жизнь пошла по-иному. Нам предстояло понять, как мало женатые пары имеют возможностей узнать друг друга, пока они замкнуты в буржуазные рамки своей семьи. Наша идиллия подошла к концу. Долгие прогулки, совместное обучение, валяние в постели до полудня — все это осталось в безмятежном прошлом. Теперь Брайан целыми днями (и ночами) пахал в небольшой маркетинговой фирме, потея над компьютерами и нетерпеливо ожидая их ответов на такие животрепещущие вопросы бытия, как, скажем, следующий: кто покупает больше моющих средств — женщины, обучающиеся на втором курсе колледжа, или женщины, уже окончившие колледж. Он кинулся в эти маркетинговые исследования с той же маниакальной страстью, какую проявлял к средневековой истории и всему остальному. Он должен был все знать; он должен был работать больше всех остальных, включая его босса, продавшего потом свое дело за семь миллионов долларов наличными сразу после того, как Брайан загремел в психбольницу. Вся эта деятельность потом оказалась мошенничеством. Но к тому времени босс Брайана уже жил в старинном швейцарском замке с молодой женой, а Брайан был «изолирован». При всей своей проницательности, Брайан не знал (или не хотел знать), что за скотина его босс. Он часто до ночи сидел за компьютерами. Я корпела в фондах Батлер-библиотеки за написанием диплома по сквернословию в английской поэзии (или, как назвал мою работу мой педантичный научный руководитель, «Сексуальный слэнг в английской поэзии середины XVII века»). Даже в этом я проявила себя как последовательная развратница.
Наш брак менялся от плохого к худшему. Брайан перестал со мной спать. Я просила и умоляла и спрашивала, что со мной не так. Я начала себя ненавидеть, чувствовать уродиной, нелюбимой. Мне казалось, что от меня воняет, — словом, все классические симптомы сексуально неудовлетворенной жены. У меня появились навязчивые фантазии на тему секса нараспашку со швейцарами, бродягами, кассирами в вест-эндском баре, студентами и даже (да простит меня Бог!) с профессорами. Я сидела на семинаре по английскому Просвещению XVIII века, слушая бредни сутулых студентов о взглядах Наума Тейта на шекспировские пьесы, и представляла, как делаю минет поочередно всем мужчинам в аудитории. Иногда я представляла себе, как меня дрючит профессор Харрингтон Стэнтон, пятидесятилетний мужчина, коренной бостонец, из хорошей американской семьи — семьи, давшей миру политиков, поэтов, психологов и психов. Профессор Стэнтон имел обыкновение раскатисто хохотать и называть Джеймса Босуэла просто «Боззи», как будто он пьянствовал с ним ночи напролет в Вест-Энде (что он, как я подозреваю, скорее всего и делал). Мне однажды кто-то говорил, что Стэнтон «блестящий ученый, но не совсем адекватен». Кажется, это соответствовало истине. Несмотря на то что он был из хорошей семьи, он пребывал на грани душевного здоровья и безумия, никогда не задерживаясь подолгу в каком-то одном из этих состояний. Интересно, каков профессор Стэнтон в постели? Он обожал бранные словечки XVIII столетия. Скорее всего, их он и нашептывал бы в постели. А может, на крайней плоти его члена вытатуирован фамильный герб? Так я сидела, посмеиваясь над этими предположениями, а профессор Стэнтон подмигивал мне, пребывая в полной уверенности, что я хихикаю над одной из его последних острот.

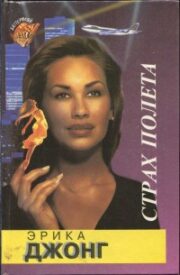
"Страх полета" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страх полета". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страх полета" друзьям в соцсетях.