И что давали мне эти страстные фантазии? Мой муж больше меня не хотел. Он полагал, что слишком много отдается работе — так оно и было. Каждую ночь я уговаривала себя заснуть, или дожидалась, когда уснет он, и уходила мастурбировать в ванную. Мне был двадцать один год, и я чувствовала себя несчастной. Когда об этом думаешь сейчас, все представляется гораздо проще. Почему я не нашла себе кого-нибудь еще? Почему я не завела любовника, не ушла от мужа или не заключила с Брайаном какого-нибудь договора о сексуальной свободе? Но я была пай-девочкой пятидесятых годов. Я выросла, дрюча себя пальцем под песню Фрэнка Синатры «В предрассветный час». Я никогда не спала ни с кем, кроме своего мужа. Меня ласкали «выше талии» и «ниже талии», согласно каким-то загадочным неписаным правилам. Но интрижка с кем-нибудь другим казалась мне неприемлемой, и я даже не думала об этом. Кроме того, я была уверена, что Брайан не спит со мной по моей вине, а не по своей. Либо я нимфоманка (поскольку я хотела, чтобы меня дрючили чаще, чем раз в месяц), либо я совершенно непривлекательна. А может, все дело в возрасте Брайана? Я была взращена на различных сексуальных мифах пятидесятых, как то:
А. Насилия как такового не существует. Никто не изнасилует женщину, если в последний момент она не даст на это согласия.
(Девушки из моей школы часто с благоговением повторяли это друг другу. Один Бог знает, где мы это услышали. Это была навязанная истина, и мы приняли ее совершенно бездумно.)
Б. Существует два вида оргазма: вагинальный и клиторный. Первый — «полноценный» (значит, хороший), второй — «неполноценный» (значит, плохой). Первый — «нормальный» (значит, хороший), второй — «невротический» (значит, плохой).
Этот выморочный, псевдопсихологический моральный кодекс был еще более кальвинистическим, чем сам кальвинизм.
В. Мужчины достигают сексуального пика в шестнадцать лет и после этого переживают спад.
Брайану было двадцать четыре. Без сомнения, он уже пережил свой пик. Уже восемь лет, как пережил. Если он спал со мной только раз в месяц в двадцать четыре года, представляю, сколько раз в год он спал бы со мной в тридцать четыре. Об этом и подумать было жутко.
Может быть, все не замкнулось бы на сексе, если бы признаки распада нашего брака были только в этом. Мы не видели друг друга. Он засиживался в конторе до семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати ночи. Я занималась хозяйством и корпела над своим сексуальным слэнгом XVIII века в библиотеке. Идеальный буржуазный брак. У жены и мужа не хватает друг на друга времени. Брак отобрал у нас главное, для чего мы поженились.
Так продолжалось несколько месяцев. Я все больше впадала в депрессию. Мне все труднее и труднее было вылезать из постели по утрам. Я до полудня пребывала в полусне. Я перестала ходить на занятия, кроме святая святых — семинара. Вся учеба начала мне казаться смешной. Я занималась только потому, что любила литературу, но изучения самой литературы как раз и не предполагалось. Нужно было изучать ее интерпретации. Один профессор пишет книгу, в которой «доказывает», что «История Тома Джонса, найденыша» — марксистское произведение. Другой профессор «доказывает», что «История Тома Джонса» — христианская притча. Третий профессор пишет книгу, «доказывающую», что «Том Джонс» — апология Промышленной революции. От вас требуется запомнить фамилии всех трех профессоров и изложить на экзамене все три теории. И всем совершенно до лампочки, что вы читали «Тома Джонса» так долго и внимательно, что вызубрили все имена персонажей и тонкости сюжета. Но совершенно не помните названия книг трех профессоров, потому что запомнить их невозможно. Что-то вроде «Риторика смеха» или «Комические обоснования в романе Генри Филдинга» или «Эстетические импликации диалектики сатиры». Филдинг перевернулся бы в гробу. Я реагировала на все это тем, что спала дни и ночи напролет.
Я всегда училась без усилий на одни пятерки, и у меня не было проблем со сдачей экзаменов, но в нашем колледже уровень идиотизма был столь высок, что переносить его дольше стало невыносимо. Поэтому все это я старалась заспать. Я проспала майское собеседование. Я спала вместо того, чтобы писать диплом. И в тех редких случаях, когда я посещала занятия, я сидела и писала в тетрадке стихи. Однажды я набралась смелости и изложила свои взгляды на жизнь профессору Стэнтону.
— Я не уверена, что хочу стать профессором, — сказала я, и вся затрепетала, зашаталась на каблуках своих красных замшевых ботинок. Это было богохульство. Объединение Вудро Вильсона выдвинуло меня на соискание преподавательской должности. Так что налицо было надругательство над святыней, родиной и флагом.
— Но ведь вы такая перспективная студентка, миссис Столлерман, чем же вы будете заниматься?
(Да, действительно, чем? Чем еще в жизни можно заниматься, кроме «Эстетических импликаций диалектики сатиры»?)
— Ну, э-э-э, я хочу стать писателем, — я произнесла это с такой страстью, как будто сказала: «Я хочу убить свою мать».
Профессор Стэнтон выглядел огорошенным.
— А-а, вон что, — протянул он раздосадованно.
К нему, наверное, часто подваливали амбициозные студенты, желавшие стать писателями.
— Видите ли, профессор, я начала изучать английскую литературу XVIII века, потому что меня привлекает сатира, но, думаю, я и сама могу писать сатирические произведения, сатиру, а не сатироведческие статьи. Критика меня как-то не прельщает.
— Замечательно! — воскликнул он.
Я сглотнула.
— А почему вы думаете, что колледж — это развлечение? Литература — это не забава, а работа, — сказал он.
— Да, — согласилась я еле слышно.
— Вы пришли в колледж, потому что любите читать, любите литературу, а литература — это тяжелый труд. Это не игрушки! — кажется, профессор Стэнтон оседлал своего любимого конька.
— Да, но вы уж простите меня, профессор, мне кажется, что все это литературоведение ничего общего не имеет ни с Филдингом, ни с Попом, ни со Свифтом. Я хочу сказать, что мне всегда казалось, что они там, в своих могилах, смеются над нами. Все это их смешит. Я имею в виду, что чтение Попа, Свифта, Филдинга вызывает у меня желание писать самой. Оно заставляет меня сочинять стихи. А литературоведение — это какая-то чушь. Простите, что я так говорю, но это правда.
— А кто уполномочил вас защищать дух Попа, Свифта, Филдинга?
— Никто.
— Тогда, черт побери, чего вы требуете?
— Ничего. Я просто думаю, что я ошиблась, когда выбрала учебу, мне нужно было начинать писать.
— Миссис Столлерман, у вас будет уйма времени для писательской работы после того, как вы получите диплом доктора филологии. Тогда у вас всегда будет шанс сменить род деятельности, если вдруг окажется, что вы далеко не Эмили Дикинсон.
— Наверное, вы правы, — сказала я и отправилась домой. Спать.
Брайан разбудил меня в июне, буквально оглушив. Не помню точно, что было «первой ласточкой», но все случилось примерно в середине июня. Я стала замечать в нем необычную даже для него исступленность. Он вообще перестал спать. Он хотел, чтобы я сидела рядом с ним ночи напролет и обсуждала тему рая и преисподней. Нельзя сказать, что для Брайана это было неожиданным. Он всегда интересовался вопросами божественного и дьявольского. Но на этот раз он заговорил о Втором Пришествии, и заговорил совершенно иначе.
Что, если (спрашивал он) Христос вернется на землю в обличии работника маркетинговой фирмы?
Что, если Ему опять никто не поверит?
Что, если Он попытается доказать, что Он это Он, пройдя по воде озера в Централ-Парке? Осветят ли это событие в передаче вечернего выпуска новостей «Си-Би-Эс»? Поймут ли, что это касается всего человечества?
Я смеялась. Брайан тоже смеялся. Это всего лишь задумка фантастического романа, сказал он. Это всего лишь шутка.
Позднее шуток стало больше.
Что, если он — Зевс, а я — Гера? Что, если он — Данте, а я — Беатриче? Что, если мы — материя и антиматерия, трехмерный мир и мир без измерений? Что, если люди в метро имеют с ним телепатическую связь и просят его о помощи? Что, если Иисус Христос вернется и освободит всех животных в зоопарке Централ-Парка? Что, если яки пойдут за Ним по Пятой Авеню, а птицы сядут Ему на плечи и запоют? Поймут ли тогда люди, кто он такой? Что, если Он благословит компьютеры, и, вместо выдачи испечатанных листков с информацией о предпочитающих покупать моющие средства, они неожиданно выдадут листья и рыб? Что, если мир будет контролироваться гигантским компьютером и только Брайану будет известен пароль к нему? Что, если из компьютера потечет человеческая кровь? Что, если, как говорил Сартр, мы все прямо сейчас попадем в ад? Что, если нами всеми будут управлять сложные машины, управляемые другими, еще более сложными машинами, управляемые третьими, еще более сложными машинами? Что, если мы все несвободны? Что, если человек сможет обрести свободу, только умерев за нее на кресте? Что, если ты будешь целую неделю ходить по улицам с закрытыми глазами, переходя дорогу на красный свет, и не попадешь под машину? Тогда ты поверишь, что ты — Бог? Что, если ты наугад откроешь любую книгу, и на любой странице в любом абзаце обязательно найдешь буквы «Б», «О» и «Г»? Не исчерпывающее ли это доказательство?
Вопросы продолжались ночь за ночью. Брайан повторял их, как катехизис. Что, если? Что, если? Что, если? Слушай меня. Не спи! Мир погибнет, а ты все проспишь! Слушай меня!
Обуреваемый неистовым желанием иметь слушателя, он пару раз давал мне пощечину, чтобы разбудить. В полудреме, со слипающимися глазами, я слушала. Слушала. Слушала. На пятую ночь у меня не оставалось ни малейшего сомнения в том, что у Брайана нет никакого замысла фантастического романа. Он сам и был Вторым Пришествием. Я с ужасом начала понимать, что произошло. Когда я все поняла, я уже не спрашивала себя: не Бог ли он на самом деле. Но, по его логике, если он Иисус, то я должна была быть Святым Духом. И, хоть глаза мои слипались, я поняла: это — безумие.
В пятницу босс Брайана уехал за город на уик-энд и поручил ему закончить одно важное дело с производителями чистящего средства под названием «Чудесное Мыло». Брайан должен был в субботу встретиться с «чудесными мыловарами» в компьютерном центре, но он с ними не встретился. «Чудесные мыловары» прождали его напрасно. Потом позвонили мне. Потом позвонили еще раз. Брайан не появлялся. Я обзвонила всех, кого могла, и потом просто сидела дома, грызя ногти и понимая, что произошло что-то страшное.
Брайан позвонил мне в пять, чтобы прочитать стихотворение, которое, как он утверждал, он сочинил, когда шел по воде озера в Централ-Парке. Стихотворение гласило:
Если «Чудесное мыло» — всего лишь пузырь
воздушный,
Почему, черт побери, никто не остается
к нему равнодушным?
Если мы не начнем сейчас же спасать мир,
От него останется только мыльный пузырь.
— Тебе нравится, дорогая? — спросил он, сама наивность.
— Брайан, ты знаешь, что люди из «Чудесного мыла» тебя весь день искали?
— Скажи, стихотворение — просто блеск? Оно подводит подо всем черту. Я хочу отдать его в «Нью-Йорк Таймс». Вот только думаю, что они выкинут слова «черт побери». Как ты думаешь?
— Брайан, я целый день отвечала на звонки людей из «Чудесного мыла». Где ты был, черт тебя возьми?
— Там и был.
— Где?
— У чертей. В аду. И ты была в аду, и я был в аду, и все мы в аду. Как ты вообще можешь беспокоиться о таком пустяке, как «Чудесное мыло»?
— Господи, а как же контракт?
— А так.
— Как?
— Ради Бога, я собираюсь о нем забыть. Я ничего не собираюсь делать. Приходи сюда, увидимся, я покажу тебе свое стихотворение.
— Где ты?
— В аду.
— Хорошо, я поняла: ты в аду, но где мы с тобой встретимся?
— Ты должна знать. Это ты меня сюда послала.
— Куда?
— В ад. Где я и нахожусь в настоящий момент. И ты там же. Ну ты и копуша, детка.
— Брайан, будь благоразумен…
— Я вполне благоразумен. Ты — единственная, кого беспокоит этот мыльный пузырь. Ты — единственная, кто думает, что звонки из «Чудесного мыла» имеют какое-то значение.
— Назови мне какой-нибудь уголок в аду, где мы сможем встретиться, и я приду. Честное слово. Только скажи где.
— А ты не знаешь?
— Нет. Правда. Пожалуйста, скажи где.
— Не морочь мне голову.
— Брайан, милый, я всего лишь хочу тебя увидеть. Давай встретимся.
— Ты можешь увидеться со мной прямо сейчас, если сделаешь умственное усилие. Ты сама себя ослепила. Ты и король Лир.
— Ты в телефонной будке? В баре? Скажи мне.

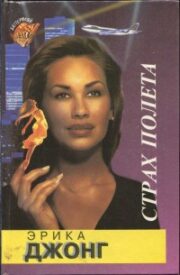
"Страх полета" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страх полета". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страх полета" друзьям в соцсетях.