Ребята, да уж не была ли она в юности герлскаутом?!
— Я уже решила для себя, — повторила я, чертовски гордясь собой. Я знала, что мне нужно, и не собиралась идти на попятную. Говоря «нет», я наслаждалась этим. Даже Адриан гордился мной. Между прочим, я должна отметить, что он ухмылялся. Он занимался вырабатыванием характера — ему всегда нравилось спасать меня от самой себя.
— Ну что ж, — сказала я, — надо непременно глядеть на вас или можно пойти посидеть у бассейна? Меня устроит любое.
— У бассейна, — безнадежно ответил Марти.
— Надеюсь, вы не передумаете, — откликнулась я.
Одобрительно помахав рукой Джуди и Адриану, залезающим в фургончик и задергивающим за собой шторки, я взяла Марти под руку и повела к бассейну, где мы уселись на камне.
— Не хотите ли поделиться со мной историей вашей любви или просто рассказать о похождениях Джуди?
Он помрачнел.
— Вы ко всему так легко относитесь? — спросил он, кивком указывая на машину.
— Обычно я ужасно переживаю, но мой дружок решил закалить мой характер.
— А именно?
— Он пытается научить меня быть поспокойней, и, вероятно, ему это удастся, но отнюдь не потому, что он так хочет.
— Все равно не понимаю, — сказал Марти.
— Прости. Я понимаю, что сразу перепрыгнула через многое из своей жизни. Это длинная, грустная и обычная история.
Марти тоскливо посмотрел в сторону лагеря. Я взяла его за руку.
— Открою тебе секрет — есть вероятность, что там вообще ничего не происходит. На самом деле он совсем не такой жеребец, как считает.
— Импотент?
— Бывает.
— Мне ничуть от этого не легче, но все равно спасибо за участие.
Я поглядела на Марти. Он не был некрасивым. Я вспомнила то время, когда тосковала по незнакомцам, по просто самцам. И по перемене мест. Но единственное, что я ощущала теперь, — безразличие. Я понимала, что этот сломленный Марти ни на шаг не приблизит меня к тому, что я так искала, — к ответу на вопрос, в чем же дело. Я жаждала предельно красивого любовного акта — когда партнеры растворяются друг в друге. Марти — не вход. А где выход?
— Как вы попали сюда? — поинтересовался он. — Разве ты не американка?
— Одно другому не мешает… На самом деле я бросила своего очень милого мужа ради этого парня.
Марти оживился. Тень удивления скользнула по его лицу. Но разве для этого я все проделала — для того, чтобы бесстыдно сказать: «Я бросила мужа» и уловить слабый импульс понимания, устремившийся ко мне от чужого человека? Разве это не самолюбование? Причем довольно нездоровое.
— Откуда ты?
— Из Нью-Йорка.
— Чем ты занимаешься?
Легкий интим, объединивший нас, пока наши половины оттрахают друг друга, располагал к беседе, поэтому меня прорвало.
— Жительница Нью-Йорка, еврейка, из довольно нервозной семьи выше среднего уровня обеспеченности, замужем второй раз и снова неудачно, без детей, двадцать девять лет, только что вышла моя книга эротических, как мне думается, стихотворений, которая заставляла незнакомых людей звонить мне посреди ночи с разными предложениями и под разными предлогами, что взбаламутило всю мою жизнь, принудило выступать в колледжах, давать интервью, получать письма от лунатиков, и вот я решила встряхнуться. Вчиталась в свои собственные строчки и захотела стать их героиней. Стала жить своими собственными фантазиями. Поверила, что я и мой персонаж — одно лицо.
— Таинственно и туманно, — произнес потрясенный Марти.
— Но все дело в том, что фантазии — это выдумки, а ты не можешь жить в состоянии экстаза каждый божий день. Даже если хлопнуть дверью и уйти, даже если трахаться со всеми встречными, это ни на шаг не приблизит тебя к свободе.
Отчего мои слова так похожи на то, что говорил Беннет? Что за ирония судьбы?
— Втолковала бы ты это Джуди.
— Никто ничего никому не может втолковать.
Позже, когда мы с Адрианом остались в палатке вдвоем, я спросила его о Джуди.
— Скучная поблядушка, — ответил он. — Она просто лежит и даже не осознает твоего присутствия.
— А ты ей понравился?
— Откуда мне знать?
— Ты даже не поинтересовался?
— Послушай: для меня трахнуть Джуди — что выпить чашечку кофе после обеда. И не особенно хорошего, между прочим.
— Тогда зачем это тебе?
— А почему бы и нет?
— Но если ко всему так безразлично относиться, то скоро вся жизнь покажется тебе бессмысленной. Это не самолюбование, а оцепенение. И все закончится тем, что ты потеряешь смысл жизни.
— Итак?
— Итак, в конце концов ты придешь к обратному. Ты жаждешь глубины, а получишь пустоту. Это самоуничтожение.
— Ты читаешь мне мораль.
— Ты прав, — вместо извинений ответила я.
На следующее утро Джуди и Марти уехали. Ночью они собрали вещи и спаслись бегством, как цыгане.
— Вечером я тебе соврал, — признался Адриан.
— А именно?
— На самом деле я не трахнул Джуди.
— Как так?
— У меня не было настроения.
Я грубо расхохоталась:
— Вероятно, ты подразумеваешь, что не смог.
— Нет. Я не это имею в виду. Я просто не хотел.
— Мне безразлично, — ответила я, — сделал ты что-то или нет.
— Черт возьми, ты лжешь!
— Это ты так считаешь.
— Ты рассержена потому, что я первый твой мужчина, которого ты не можешь удержать возле себя. А ведь ты дня не можешь прожить без того, чтобы не покомандовать кем-то.
— Чепуха. Так получилось, что мои запросы и стремления выше твоих. Я вижу тебя насквозь. Я полностью согласна с тобой насчет непосредственности и саморекламы — это действительно не непосредственность, а жест отчаяния. Так ты сказал мне в первый день нашего знакомства — теперь я возвращаю тебе твои же слова. Отчаяние и депрессия под маской свободного поведения. Это даже не доставляет удовольствия. Это просто душераздирающе. А наше путешествие уморительно.
— Ты никогда никому не даешь шанса, — проговорил Адриан.
Позже мы плавали в бассейне и нежились на солнце. Адриан растянулся на траве и, прищурившись, пристально смотрел в небо. Моя голова лежала на его груди, и я вдыхала теплый аромат его кожи. Неожиданно на солнце набежала небольшая тучка и начался дождь. Мы не двигались. Дождь скоро прошел, оставив на наших телах крупные капли. Я чувствовала, как под лучами вновь появившегося солнца они медленно испаряются. Паучок-косиножка полз по плечу Адриана к его волосам. Я мгновенно вскочила.
— Что случилось?
— Мерзкая козявка.
— Где?
— На твоем плече.
Он повернул голову, посмотрел на паучка и схватил его за ногу. Тот покачивался из стороны в сторону, разгребая лапками воздух, подобно пловцу.
— Не убивай! — попросила я.
— Мне показалось, ты его боишься.
— Верно, но я не хочу видеть, как ты его убьешь. — Я откинулась назад.
— А может, сделаем так? — проговорил он, отрывая одну ногу.
— О Боже, нет! Я ненавижу, когда так делают.
Адриан продолжал обрывать лапки паучка, как лепестки ромашки.
— Любит — не любит, — приговаривал он.
— Я ненавижу это, — повторила я. — Пожалуйста, прекрати.
— Мне казалось, ты ненавидишь пауков.
— Я не люблю, чтобы они ползали по мне, но не могу смотреть, как их убивают. И меня тошнит при виде того, как ты калечишь его. Я не хочу смотреть. — Я поднялась и побежала к бассейну.
— Не понимаю я тебя! — крикнул мне вслед Адриан. — Почему ты так чувствительна к виду смерти?
Я нырнула в воду.
До ужина он не заговаривал со мной.
— Ты все испортила, — сказал он. — Испортила своей раздражительностью, мнительностью и повышенной чувствительностью.
— Хорошо, довези меня до Парижа, а оттуда я доберусь домой одна.
— С радостью.
— Я могла бы сказать тебе, что ты непременно заскучал бы со мной, прояви я хоть раз свое нормальное человеческое естество. Что же это за податливая женщина нужна тебе?
— Не глупи. Я хочу, чтобы ты повзрослела.
— В твоем понимании этого слова.
— В нашем понимании.
— Ты не демократ, — саркастически заметила я.
Он принялся укладывать вещи в машину, гремя шестами от палатки и прочим металлическим барахлом. На это ушло минут двадцать, за которые мы не проронили ни слова. Наконец он уселся в машину.
— По-моему, тебе абсолютно наплевать, что я хорошо относилась к тебе и из-за этого поломала свою жизнь.
— Ты делала это не для меня, — ответил он. — Это было твоим искуплением.
— Я никогда бы так не поступила, если бы не чувство к тебе, очень сильное чувство. — И затем с содроганием, волной накатившем на меня, я вспомнила, как меня страстно тянуло к нему в Вене. Дрожь в коленях. Чувство пустоты в желудке. Рвущееся сердце. Учащенное дыхание. Все то, что он вызвал во мне, все, что заставило меня уехать с ним. Я хотела его такого, каким он был в нашу первую встречу. А теперь он стал разочарованием.
— Мужчина под кроватью никогда не станет мужчиной на кровати, — заметила я. — Или — или. Как только мужчина перебирается наверх, он более не тот, кого ты так желаешь.
— О чем, черт возьми, ты говоришь?
— О моей теории секса нараспашку, — сказала я и объяснила ему ее как можно доходчивее.
— Выходит, я разочаровал тебя? — спросил он, обняв меня и пригибая все ниже и ниже, пока моя голова не коснулась его колен, и я не вдохнула запах его давно не стиранных брюк.
— Давай выйдем из машины, — предложила я.
Мы вышли и сели под дерево. Голова моя лежала у него на коленях. Я стала бесцельно забавляться с его ширинкой, наполовину расстегнула ее и дотронулась до его мягкого пениса.
— Он маленький, — сказал Адриан.
Я поглядела на Адриана, на его зелено-золотистые глаза, светлые волосы надо лбом, морщинки от смеха в уголках рта, загорелые скулы. Мне он все еще казался красивым. Я с грустью отметила, что когда-то хотела его, и едва не расплакалась, потому что это осталось в прошлом. Мы поцеловались долгим поцелуем, его язык ошеломляюще двигался в моем рту. Но независимо от длительности поцелуя его пенис по-прежнему оставался мягким.
Он улыбнулся своей лучезарной улыбкой; засмеялась и я. Я знала, он всегда таился от меня. Я поняла, что никогда не обладала им полностью, и это придавало ему еще больше очарования. Я напишу о нем, буду говорить о нем, помнить его, но никогда не буду с ним. Недосягаемый человек.
Вместе мы доехали до Парижа. Я настаивала, что хочу вернуться домой, а Адриан пытался убедить меня остаться. Теперь он боялся оказаться без моей преданности. Он понимал, что я отдаляюсь. Он чувствовал, что я уже заношу его в свой дневник для будущего использования. По мере приближения к окраинам Парижа мы смогли различить надписи под пролетом моста скоростного шоссе. Одна из них гласила:
Женщины! Освободимся!
Соблазненная и покинутая
Я думаю, избирательное право ничего не значит для женщин. Мы должны вооружиться.
Снова Париж.
Мы прибываем, завернутые в дорожную пыль. Два переселенца Джона Стейнбека, два пыльных водевильных персонажа Колетт.
Писать на обочине представляется прелестным только в руссоистских теориях, а в жизни после этого вся промежность липкая. Одно из неудобств быть женщиной заключается в том, что все время приходится писать в свои туфли. Или на них.
Итак, мы прибываем в Париж — липкие, пыльные, слегка описанные. Мы опять влюблены друг в друга — это вторая стадия любви, которая заключается в тоске по первой стадии. Это вторая стадия, которая наступает, когда ты чувствуешь, что любовь уходит, и не можешь перенести мысли о еще одной потере.
Адриан ласкает мое колено.
— Как ты, дорогая?
— Отлично, дорогой.
Мы больше не знаем, что в наших словах правда, а что — ложь. Актеры слились со своими ролями.
Я наконец решилась поскорее разыскать Беннета и, если он возьмет меня обратно, начать жить с ним заново. Но я совершенно не представляю, где он может сейчас быть. Я решаю позвонить ему. Я полагаю, что он вернулся в Нью-Йорк. Он ненавидит ошиваться в Европе почти так же, как и я.
На Гар дю Нор я нахожу телефон и пытаюсь заказать разговор. Но я забыла все французские слова, какие знала, а английский телефонистки оставляет желать лучшего. После абсурдного диалога со множеством ошибок, после помех и неверных соединений я попадаю на свой домашний номер.

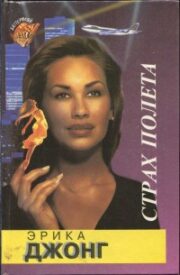
"Страх полета" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страх полета". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страх полета" друзьям в соцсетях.