Однако Ирине совершенно не о чем волноваться. Она и Гоголя переживет, и отмену крепостного права увидит, и… и…
Но как убедить в этом Ирину?
— Да, жуткая участь, — пробормотал между тем Алексей. — А помните аббата Антуана Франсуа Прево, автора романа о приключениях распутницы Манон Леско и кавалера де Грие, коим вот уже лет двадцать как зачитываются все русские барыни? Он, по слухам, был сражен апоплексическим ударом, однако приятели его, свободомыслящие врачи, решили исследовать его труп на благо науки. Они начали вскрывать его грудину, но тут Прево открыл глаза, полные муки, — и испустил дух на глазах у своих невольных убийц. Оказывается, он не умер, он просто впал в летаргус, который был прерван таким жестокосердным и зверским способом!
— Господи Иисусе, — быстро перекрестилась Ирина. — Спаси и сохрани!
— Да уж, барышни и вы, барин, зачем далеко ходить, — подал голос Кеша. — В наших краях вот что случилось однажды… Померла у одного мужика жена, а была она, по-нашему, по-простому говоря, брюхатая.
Произнеся это совершенно непристойное слово, он спохватился, аж рот ладошкой прикрыл и виновато посмотрел на Ирину. Бледные щеки той чуть порозовели, и можно было предположить, что, находись она в добром здравии, сейчас залилась бы краской до ушей. Ну как же, такое оскорбление ее невинности… Впрочем, Ирина скрепилась и снисходительно махнула Кеше: продолжай, мол!
— Ну, отпели ее и нерожденного ребеночка во чреве, — воодушевленно заговорил Кеша, — положили в гроб да и снесли на кладбище. Там все честь по чести — опустили в могилу да и засыпали землей. Только ночью вышел кладбищенский страж за нужным делом из своей избушки, слышит — вроде бы младенец где-то плачет. Небось попритчилось, думает. Нет, плачет и плачет! Пошел на крик — а крик-то из-под земли, из свежей могилы доносится! И вспомнил он, что в этой могиле чреватую бабу схоронили. Сторож был не робкого десятка: костер разжег, чтобы светло было, кругом себя черту очертил, оградившись от нечистого, заслонился святым крестом, схватил заступ — и ну землю в сторону швырять! Чем глубже копает, тем громче крик. Дорылся сторож до гроба и понял: именно там, внутри, младенчик плачет. Взломал он крышку, поднес ближе горящую головешку — да и видит: лежит женщина… а в ногах ее младенчик копошится. Он живой, а она уже померла, страдалица. Родила его — да и померла навовсе…
Кеша обвел глазами примолкших, накрепко ужаснувшихся слушателей:
— Вот провалиться мне на этом месте, если я вру! Говорят, что в имении графа Москвина живет этот мальчонка. То есть теперь он уже парень, парнище, можно сказать, но вот выпала ему такая судьба — родиться в могиле!
— Жуть какая, — пробормотала Лидия. — Жуть!
И вдруг раздался какой-то странный звук… не тотчас Лидия поняла, что это сдавленное рыдание. Рыдала Фоминична.
— Что ты, нянюшка? О чем ты? — встревожилась Ирина.
— О тебе, милушка, — захлебываясь слезами, выговорила Фоминична. — О тебе, моя красавица. Слушай, что скажу тебе… и вы, господа хорошие, слушайте! Помните, говорили мы о призраке Гаврилы Иваныча?
— Как не помнить! — хмыкнул Алексей. — На счастье, Гаврила Иваныч нынче ублаготворен и покоя нашего нарушать более не должен.
— Так вот… Грех на мне! — Фоминична, только что сидевшая на стуле, вдруг повалилась на колени и принялась покаянно биться лбом об пол: — Солгала я вам! Солгала!
— Ты, Фоминична, гляди голову не разбей, — усмехнулся Алексей, поднимая ее и снова усаживая. — Слышь? Расколотишь, говорю, голову. Угомонись да скажи толком, в чем дело-то!
— Призрак Гаврилы Иваныча отродясь по этому дому не хаживал, — заговорила, всхлипывая, Фоминична. — Не его это был призрак, а молодой графини Марьи Петровны Симеоновой, первой жены его деда и твоего, Иринушка, прадеда!
Кеша осенил себя крестным знамением и уставился на Фоминичну с ужасом.
— Знаю, Кеша, что говорить ты об сем не хотел, — скорбно кивнула она, — однако же, коли пошли такие страшные дела, коли сам Бог подвел к этому беседу, то надобно тайну открыть. И не спорь со мной, даже не пытайся меня отговорить!
Кеша, который явно хотел что-то сказать, смешался, промолчал, неуклюже поклонился и вышел.
— Призрак дамы? — повторил Алексей. — Молодой графини? Странно… у меня отчего-то было мнение, что молодые дамы, тем паче — их призраки, ходят легкой, почти невесомой поступью. Мы же все могли слышать шаги тяжелые, утомленные… ты, Фоминична, конечно, можешь сказать, что сюда с кладбища путь не ближний, по полпуда грязи на ноги нацепляешь, оттого и шаркала Марья Петровна ногами, как старушка… — Он хохотнул. — Умоляю, оставьте все эти бабьи сказки!
— Ай, прикусите язык, Алексей Васильевич! — панически взвизгнула Фоминична. — Прикусите сей же момент! Не гневите душу безвинную, злодейски загубленную коварством и лукавством! Вы меня только выслушайте — да и поймете, что сказка — ложь, да в ней намек!
«Добрым молодцам урок!» — едва не добавила Лидия, но она уже привыкла подхватывать неосторожные словечки на кончике языка. Саша Пушкин еще в лицее, в Царском Селе. Тс-с!
— Стало быть, некогда, еще при царице-матушке Анне Иоанновне, граф Григорий Симеонов женился на девице Марье Петровне Кувшинниковой, — начала рассказывать Фоминична. — Она была хорошего рода и богата, а пуще всего славилась добрым сердцем. И ее родители были столь же добросердечны, а потому однажды приютили в своем доме какую-то побродяжку, подобрав ее на улице, словно бездомную собачонку. Невдомек им было, что дьявол, истинный дьявол вкрался в их дом в облике этой девочки… Однако сначала она дьявольской природы своей никак не показывала: росла да росла вместе с Машенькой Кувшинниковой, всеми ласкаемая и пригретая, словно в доме родительском. Вместе с Машенькой грамоте училась, играла, обучалась иноземным языкам и танцеванию, а также всему тому, что надобно знать барышне из хорошего дома. И хоть вроде бы никто между двумя барышнями границы не проводил, никто разницы между ними не подчеркивал, та-то, другая, воспитанница… имени ее даже называть не хочу, чтобы не скверниться… — Фоминична быстро перекрестила рот, — она-то всегда знала, что бесприданница безродная и партии ей блестящей никогда не сделать, в лучшем случае, по доброте своей неизмеримой, пристроят ее опекуны за какого-нибудь небогатого вдовца с детьми или бобыля-деревенщину. А ей хотелось большего! Она ощущала себя во всем равной Марье Петровне, даже лучше ее, красивей, умней! И мечтала когда-нибудь занять ее место… Однако она была хитра, а потому помыслы свои держала при себе. И вот однажды, на каком-то балу, встретилась Марья Петровна с Григорием Андреевичем Симеоновым. Они приглянулись друг другу, Григорий Андреевич заслал сватов, ну а там, как говорится, честным пирком да за свадебку. И переехала Марья Петровна из дома родительского в дом мужнин, и все было бы хорошо, когда б не взяла она с собой ту, которую называла своей сестрой и к которой искренне, всей душой была расположена и привязана. Приблудную побродяжку, на большой дороге подобранную из милости…
Голос Фоминичны исполнился истовой ненавистью и на миг прервался, но тотчас она совладала с собой и продолжала рассказ:
— Шло время. Молодые жили душа в душу, да и побродяжка сия поначалу вела себя тише воды ниже травы. Но вот случилось, что Господь благословил сей брак: Марья Петровна ощутила себя чреватою. Однако здоровья она была некрепкого, могла ребенка лишиться, а потому и бабки, и доктора настрого запретили ее супругу к ней приближаться и предписали им даже спать в разных комнатах, дабы греха меж ними не случилось даже невзначай. Однако Григорий Андреич был ко греху вельми склонен, и вот однажды обратил он внимание на прелести побродяжки, тем паче что она их не стеснялась выставлять напоказ и не скрываясь намекала на то, что готова утешить молодого хозяина в его нежданно наступившем посте. Слаб человек плотью, а против дьявольских искушений слабже того. И начали Григорий Андреич с побродяжкою хаживать друг к дружке ночами. Днем они таили свои пакостные проделки, Марья Петровна в невинности своей ни о чем даже не догадывалась… Шло время, вскорости Марья Петровна должна была разрешиться от бремени. И побродяжка призадумалась: ведь, родив ребеночка, Марья Петровна от запретов врачей освободится и вернет себе супруга! А ей не хотелось с Григорием Андреичем расставаться, она мечтала его на себе женить… Побродяжка сия была сведуща во всяких злых зельях, зналась с деревенскими знахарками, и начала она украдкой молодую госпожу опаивать ядовитыми травами. Опаивала день, другой, месяц и добилась-таки своего: Марья Петровна занемогла. Приезжие из Москвы доктора не могли ничего у нее сыскать, никакой явной болезни, все сваливали на тяжелое течение ее положения. Родит-де — и здоровье наладится. Однако как оно могло наладиться, если каждый день в пищу и питье Марьи Петровны была подлита или подсыпана отрава?! И случилось то, что должно было случиться: Марья Петровна умерла. То есть была такая видимость: она похолодела, помертвела, лежала недвижимая день и другой… Все сочли ее мертвою: и супруг, и родители, и слуги. И пуще всех настаивала на том побродяжка, хотя она-то знала доподлинно: Марья Петровна жива, она всего лишь погружена в тяжкий сон, который наведен на нее злыми зельями! Но все поверили в смерть молодой госпожи, оплакали ее — кто от души, а кто лицемерно — и отнесли на кладбище. Зарыли в могилу… а ночью она от сна смертного очнулась. На ту пору явились на кладбище нехристи — грабители могил, которые прослушали, что похоронена богатая госпожа, на которой остались драгоценности. Они вскрыли могилу и гроб, надеясь поживиться. И надо же такому сбыться, что именно в это мгновение Марья Петровна открыла глаза! Один грабитель тут же, на месте, и помер со страху, другой бросился бежать куда глаза глядят, ну а бедная Марья Петровна, кое-как собравшись с силами, выбралась из могилы и побрела к дому своего супруга. Долго шла она, иногда падая, но снова поднимаясь, шла да шла… и вот наконец показалась перед ней барская усадьба. Стояла глухая ночь, все окна были темны, и только в одном горел огонечек. Марья Петровна подступила к тому окошку, намереваясь постучаться, да и обмерла. Увидела она супруга своего, который оплакивал усопшую… в объятиях ее подруги! Немедленно Марья Петровна прозрела всю глубину их коварства, поняла, что стала она безвинной жертвою злобных происков! Она хотела войти в дом и настоять на своих правах, но… но силы ее иссякли, и она упала, где стояла. Начались тут у нее преждевременные роды. В страшных мучениях, без всякой помощи, исторгла она из себя мертвого младенца и скончалась сама — на сей раз уж безвозвратно! Наутро бедняжку нашли — и вновь похоронили. Ужас, обуявший людей, знавших об этой страшной истории, был таков, что все единодушно порешили о ней молчать. Григорий Андреич был так потрясен, что уехал жить в московский дом. Замыслы злобной отравительницы рухнули: Григорий Андреич прозрел ее страшную натуру и изгнал прочь из дома. Судьба ее неведома. Сам же спустя немалое время он женился на девушке из доброй московской семьи, Катерине Львовне Машковой, которая и сделалась родительницей Ивана Григорьевича Симеонова, а он стал отцом Гаврилы Иваныча и Михайлы Иваныча. Затеряево некоторое время стояло заброшенным, потом туда перебрался Иван Григорьевич, а за ним и Гаврила Иваныч. Дом ожил. Но страшная история, которая была с ним связана, так и хранилась в тайне, многие о ней даже и слыхом не слыхивали. Однако говорят, что иногда призрак Марьи Петровны все же объявляется в Затеряеве и бродит по комнатам. Поступь ее столь тяжела потому, что она является сюда чреватою, со бременем своего нерожденного младенца. А приходит она тогда, когда чувствует, что в доме готовится какое-то злодейство… Может статься, это несчастная Марья Петровна приходила к тебе, — обернулась Фоминична к Ирине. — И хотела тебе что-то сказать… предупредить тебя хотела…
— Вы хотите сказать, в доме готовится злодейство? — недоверчиво проговорил Алексей. — Ну а кто, по-вашему, злодей, скажите на милость?
Фоминична молчала, не поднимая глаз, только глубоко, скорбно вздохнула.
— Нет, — покачала головой Ирина, которая во время этого страшного рассказа сделалась уж вовсе белее мела… да и Алексей, честно говоря, несмотря на свой скептицизм, выглядел не лучше, и Лидия имела все основания думать, что и она столь же бледна. — Нет, ко мне приходила не Марья Петровна. Это был не призрак, а… живой человек.
— Почему же ты так думаешь? — удивилась Фоминична.
Ирина молчала, словно не решалась заговорить. Потом наконец молвила чуть слышно:
— Да потому что… потому что, когда я провела по ледяным рукам, ко мне прикоснувшимся, что-то словно бы сползло с пальца этого неведомого, страшного существа. Я сначала не вполне поняла, что случилось, однако, когда открыла утром глаза, увидела около своей подушки… увидела я вот это!

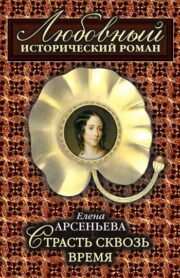
"Страсть сквозь время" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страсть сквозь время". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страсть сквозь время" друзьям в соцсетях.