Варвара Сергевна чуть было не набросилась на него с кулаками, чуть было не растерзала проклятого сластолюбца с его этим пальцем черней чернозема! С его этим перстнем на скрюченном пальце! На Юрочкином, на редакторском кресле, его растерзала бы до основанья!
Однако Кащей вдруг нахмурился: вспомнил проклятую старость, отсутствие лошади…
— Ну, значит, так, милая, — неприятным скрипучим голосом сказал он, с трудом оторвавши блеклые глаза от высокой груди Варвары. — Нам придется расторгнуть контракт с вашим супругом, поскольку он не справился со своими обязанностями. И я вам скажу, в чем тут дело: творческому человеку, такому, как ваш супруг, нужно книжки сочинять, а не журнал вести. А мы уж поищем служаку, простого, без фокусов, не фантазера, не Гоголя… И не Достоевского, кстати…
Но дальше Варвара не слышала. Хлопнув дверью так, что задрожали стекла в бывшем Юрочкином кабинете, она вылетела из него, забыв про больную поясницу, и застучала каблуками сперва по паркетному полу, а потом по гладкому, влажному от летучего дождя тротуару. Старые липы, помнившие, наверное, не только Гете, но даже и Шиллера, даже и Гейне, рванулись навстречу ей и, потирая свои очень мягкие, добрые руки, сказали немецкую длинную фразу. Варвара их не замечала.
Владимиров не был человеком не от мира сего и то, что в редакции за его спиной происходило какое-то движение и то, что начальство было недовольно им, почувствовал почти сразу. Но времени не было думать об этом: роман поглощал собой все. И так, как корабль, преодолевающий одну бурю за другой, движется от порта к порту, избавляется от одних грузов и пополняется другими в то время, как его молодая команда мужает, грубеет, тоскует без женщин, так этот роман продвигался сквозь темень, и ни одно слово его не было уверено в том, что уцелеет, не будет выброшено за борт, не пойдет ко дну и не разобьется о камни.
Когда его «волчонок», как Владимиров привык называть про себя Гартунга Бера, познал свою первую женщину, душа его взмыла в надмирную высь, и Владимиров, боясь потерять ее в этом огне, стучал на машинке так быстро, что буквы в словах пропускал без конца и вовсе не помнил о знаках. Маша и Гартунг были почти детьми, они ничего не боялись. В их близости не было места стыду, а все было так, как бывает в природе. Когда все закончилось и Гартунг Бер зарылся лицом в ее светлые волосы, он чувствовал счастье такой остроты, что даже дышать глубоко было больно.
«Гартунг уже не целовал ее, он просто наслаждался ее близостью и не хотел выпускать ее из своих рук никогда. Машиного лица он не видел, потому что его стриженая голова оказалась между ее грудью и животом, и когда он открывал глаза, он видел только шелковистую, блестящую от пота белизну ее кожи и розовый твердый сосок, до которого изредка, не целуя, дотрагивался губами. Наконец она осторожно перевела дыхание. Губы ее были полуоткрыты, на крупных верхних зубах поблескивала слюна, и нежный пушок рыжеватых подмышек был влажным.
— Меня скоро хватятся, нужно идти, — сказала она.
— Ты любишь меня? — спросил ее Гартунг.
— Конечно, люблю, — прошептала она. — Ведь мы теперь муж и жена.
Это прозвучало так неожиданно, что Гартунг смутился, а она закинула руки и обеими ладонями высоко подняла над затылком тяжелые желтые волосы…»
Варвара никогда не входила в комнату, когда Владимиров работал, но сейчас она влетела к нему без стука, и он обернулся, рассерженный.
— Что, Варя? Ведь я же работаю! Так же нельзя…
— Я их загрызу за тебя! — разрыдалась она. — Они нас уволили, Юра!
Первым, что он почувствовал, было облегчение. Теперь можно не ходить в редакцию, не читать скверных рассказов, не выбрасывать в мусорную корзину плохие стихи и не отстаивать свои решения в дурацких спорах. Он вдруг стал свободен. Но тут же другая, страшная мысль, что теперь он без работы, в незнакомой стране, без языка, с беспомощной женщиной на руках, обрушилась на него, и, стремясь защититься от этой мысли, он обеими руками схватился за голову.
— Я напишу на «Свободу», позвоню Завлатову! — кричала жена. — Им все это так не пройдет!
— Постой! Подожди, — перебил он ее. — На что будем жить?
Варвара, дрожа, опустилась на стул.
— А мы ведь должны за квартиру… — Она побелела. — Я этого так не оставлю, ты слышишь? Они на коленях к тебе приползут! Поверь мне! Они приползут на коленях!
— Опомнись ты, Варя! Какие колени?
— Но, Юра… Ведь нас пригласили…
Она бормотала бессвязную чепуху, и он, не вслушиваясь в ее слова, понимал одно: ей страшно сейчас, так же страшно, как ему, потому что они задолжали за квартиру, не знают немецкого, да и никакого другого иностранного языка тоже, и призрак нищеты, вечный призрак, вылезший из глубины памяти, стоял перед ними обоими. Владимирову вспомнилась мать, какой она была, когда состарилась и заболела, и поэтому цеплялась за него, льстила Арине, говорила, что никому не была так предана, как сыну, которому отдала всю жизнь и выгнала мужчину, не сумевшего заменить ему отца. Она все лгала, и он это знал, и Арина, и Катя, но все они делали вид, что так нужно, жалея ее, совсем старую, нищую…
Через неделю после бурной встречи Варвары Сергевны с бывшим казаком и белогвардейцем Руслановым, справедливо заметившим, что мужу Варвары Сергевны гораздо приличней заниматься своим прямым делом, то есть сочинять книжки, а вовсе не рваться в большую политику, видавшая виды машина остановилась у подъезда многоэтажного кирпичного дома в одном из предместий нарядного Франкфурта. Из машины вылез седой, несколько сутулый, с очень приятным лицом человек, а за ним с капризной медлительностью, словно она только что станцевала умирающего лебедя, появилась красивая дама с кукольно накрашенными ресницами, одетая очень старательно. Первым делом она вскинула свои ресницы и несколько презрительным, но все же взволнованным взглядом обежала — насколько смогла — целый дом. На лице у нарядной красавицы мелькала суетная озабоченность тем, кто смотрит на них из окон и кто что о них сейчас думает. Но вряд ли о них кто-то думал. Земля пахла клевером, был жаркий полдень. На небе сияло спокойное солнце, а птицы как будто погасли в лесу: наверное, горла у них пересохли. К огорчению Варвары Сергевны, было похоже, что ни одно на свете существо не интересовалось тем, что происходит со знаменитым русским писателем Юрием Владимировым и его столь нарядной женою.
Нагруженные вещами, они зашли в подъезд, вызвали лифт, тесный, несколько обшарпанный, поднялись на одиннадцатый этаж, и Владимиров, достав из кармана новенький ключ, открыл дверь одной из четырех квартир, находившихся на лестничной площадке высокого чужого этажа. Квартира была совершенно пуста, чисто вымыта, и это отсутствие даже окурка, какой-нибудь даже несчастной газеты, в которой всегда люди врут друг про друга, произвело на вошедших грустное впечатление.
— Какое все мертвое, Господи, Юрочка! — сказала Варвара, и черные глаза ее налились слезами.
Владимиров тихо вздохнул. Варвара опомнилась.
— Мне очень здесь нравится! — с вызовом произнесла она. — Здесь просто прекрасно! Мы в центре Европы, у нас есть прожиточный минимум, ты скоро закончишь роман, свою книгу, и нас не оставят друзья! А книга твоя принесет много денег!
Голос у нее, однако, задрожал, и, чтобы скрыть от мужа свое огорчение, Варвара Сергеевна, быстро повернувшись на красных лакированных каблучках, убежала в ванную. Там она открыла кран, чтобы Владимиров не услышал ее рыданий, и долго, мучительно, страстно рыдала, зажав рот ладонями, смазав помаду.
Вечером они сидели на чемоданах и ужинали. На первое была пицца, которую Владимиров купил на соседней бензоколонке, на второе тоже была пицца, а из напитков большим успехом пользовалась водка, стоящая рядом на полу. Водку они привезли с собою из Франкфурта.
— Ну что, моя радость? — повеселев, сказал Владимиров. — Давай запечатлею безешку в сахарные уста твои и — на боковую! А завтра поедем и купим кровать, два стула и стол. И начнем новую жизнь.
Варвара прилегла на его колени, закинула руки за голову.
— А кроме безешки?
— Ты мне честно скажи, — перебил ее Владимиров, налил треть стакана и выпил, зажмурившись. — Сломал тебе жизнь? Только честно скажи.
— Ну, так уж сломал! — усмехнулась Варвара и томно взглянула на пьяного мужа. — Да я за тебя…
Она не успела договорить, как в дверь позвонили.
— Кого черт несет! — Владимиров встал и пошел открывать.
За дверью стояли три пожилые женщины, похожие друг на друга. Одна была очень маленького роста и казалась намного старше сестер. Волосы ее были совсем белыми, но еще сильными, густыми и мелкими кудряшками выбивались на лоб из-под простого железного обруча. На всех были темные платья и бусы.
— Мы ваши саседи, — с сильным армянским акцентом сказала старшая. — Пришли пазнакомиться. Мы сестры. Вот эта — Джульетта, а эта — Афелиа. Я — Гаянэ.
Сестры были смуглыми, с блестящими маслиновыми глазами, большими носами, немного усатые. Когда они через плечо растерявшегося Владимирова увидели стоящую на полу бутылку и остатки пиццы, глаза у сестер округлились.
— Зачем вы так кушали? — убито спросила Офелия. — Так только сабаки на улице кушают, а люди сидят за столом, чтобы кушать как люди!
Они затрясли головами, и бусы на старых их шеях слегка зазвенели.
— Пайдем к нам пакушаем. Есть что пакушать. Гарячее, свежее, только из печки.
Варвара вскочила с готовностью.
— Красивая женщина, — одобрительно заметила Офелия, как будто Варвара была глухой и не слышала ее. — Очень красивая. На наших армянок похожа.
В соседней квартире был накрыт стол. Над ним стоял запах. И он был таким, что дрогнуло сердце Владимирова. На секунду ему показалось, что нет никакой Германии и Франкфурта нет, а есть Ереван, где гуляют писатели. И он, молодой, в рубашке с закатанными рукавами, сидит за столом на террасе в доме покойного Оганеса, такую писавшего прозу, что завидно было, и жена хозяина полными молочно-белыми руками разрывает над белой скатертью горячий и свежий лаваш…
— Сначала путук будем кушать, — строго сказала усатая Гаянэ и сняла крышку с глиняного горшка. — Патом мы сунки будем кушать. Желудку палезно.
Покорно смеясь, они сели за стол. Офелия разлила суп по глубоким белым тарелкам.
— Да мы ведь поели… — смущенно сказала Варвара.
— Ай! Што вы паели! — с ужасом воскликнули сестры. — Какую вы гадкую пищу паели! Сабаки такую не кушают! Путук нада кушать! Пажалуйста, кушайте!
Шесть одинаковых встревоженных глаз смотрели на то, как Владимиров и его захмелевшая жена с жадностью едят путук.
— Я в жизни такого не ела, — вздохнула Варвара. — Я даже и слова такого не знала: путук.
— Как можна не знать? — И вся Гаянэ закачалась, как куст. — Теперь будешь знать и сама пригатовишь. Пайдем завтра купим баранью грудинку. Такой магазин есть хароший, в падвале, баранина свежая, зелени многа. Патом я тебя научу. Путук тебе дам. Как не знаешь путук? Гаршок этат глиняный так называется. В кастрюле нельзя суп варить, суп пагибнет. Грудинку нарежешь и варишь с гарохом.
— Аесор инч ор э? — со страхом спросила Офелия.
— Ана гаварит: «какой день?», — перевела Гаянэ. — У них в магазине баранина лучше всего в панедельник. Вчера панедельник был, завтра среда. Индз ми хангари![2] Всегда мне мешает! Начну гаварить, а ана мне мешает! Баранину режешь кусочками. — И вновь устремила свой взгляд на Варвару. — Нарежешь кусочками, станешь варить. Вада испаряется, так? Падливаешь бульон. А мясо самой нада пробавать. Паваришь, паваришь, дастанешь кусочек, атрежешь нажом и немнога пакушаешь. Кагда станет мягким, дабавишь гароха. Апять варишь, варишь и пробуешь. На ложку берешь и немнога пакушаешь…
Варвара слушала ее так, как дети, засыпая, слушают сказку. Во сне ей казалось, что завтра она, проснувшись ни свет ни заря, купит белый «гарох», потом будет резать душистую зелень, потом будут с Юрочкой кушать путук… На следующий день тоже будет варить, потом будут кушать и снова варить…
— …А брат гаварит: «Я вас всех заберу». А мы гаварим: «Как ты нас заберешь? Артур, дарагой, как ты нас заберешь?» А он гаварит: «Там нельзя больше жить. Апять везде кровь палилась. Теперь Карабах будут долго делить». Что делить Карабах? Живем и живем. Что делить этот суп? Пакушаешь суп, нада новый варить. Знаешь хаш? Тоже суп. Армяне всегда гаварят: «хаш — наш суп», а ани гаварят: «хаш — наш суп». Аткуда мы знаем, чей суп? Его в Азербайджане едят, его в Ереване едят. Зачем тагда кровь, гаварим?
— Где ваш брат? — спросил Владимиров, глядя на этих полных, с тревожно и удивленно блестящими глазами, мудрых старух. — Он что, здесь, в Германии?

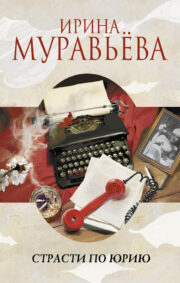
"Страсти по Юрию" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страсти по Юрию". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страсти по Юрию" друзьям в соцсетях.