— Среди народов Севера, — ровным угрожающим голосом продолжала Ольга Петровна, — произошла де-мог-ра-фи-чес-кая катастрофа, когда активисты, посланные на льды советской властью, начали пропагандировать среди них гигиену! Как только ненец или эвенк дотронулся до своей кожи мылом с мочалкой, он стал беззащитен, стал легкой добычей для смерти!
— Помилуй нас, Господи! — перекрестился трусливый Мишаня.
Наставница ярко сверкнула глазами.
— Радение, Миша, пока отменяем. На этих раденьях двоих обрюхатили, а мужней жене пришлось сделать аборт! Ей, дуре, теперь от кого и не вспомнить! «От всех, — говорит, — понесла». Что вы с дуры возьмете?
Неожиданно Мишане захотелось пройтись по Латинскому кварталу и съесть эскарго. Или луковый суп. Вообще, хорошо бы в Париж на недельку.
— Вы, Миша, боролись, собой рисковали… — заметила Ольга Петровна.
— Да, я рисковал, — горько молвил Мишаня.
— И жизнь вашу нужно беречь.
— Да что моя жизнь! Разве кто-нибудь вспомнит! Для пасквиля разве какого…
— Вы можете, Миша, не мыться?
Устинов немного опешил.
— Не мыться, не мыться! Я буду вас, Миша, держать у себя, кормить и поить. Лечить, если нужно. И я докажу одну вещь с вашей помощью. Это, как я думаю, тянет на Нобелевскую премию. Открытие века. Вы меня знаете, Миша: плевать мне на премию! В ногах у меня будут валяться, ни копейки не приму! Но мне доказать крайне важно.
— А что доказать?
— Все болезни людей, — хвастливо ответила Ольга Петровна, — происходят от того, что нарушается жировой слой, который на нашу кожу наносится изнутри самим нашим организмом. А мы его, неучи, мылом смываем!
Мишаня стал бледен.
— Да, Миша! Представьте себе! Меня осенила простая разгадка! Не мойтесь — и будете жить так, как в Библии! По сто пятьдесят — двести лет! На здоровье!
При упоминании Библии Устинов опять перекрестился.
— И именно вы мне нужны сейчас, Миша. В вас есть дух протеста. Не зря же вы столько боролись! Вы стерпите все!
— Как долго не мыться? — спросил помрачневший Устинов.
— Чем больше, тем лучше! Ну, год для начала…
— Нет, год не смогу. Ведь за год я…
— Что, Миша? Вас, может быть, запах телесный смущает? — она вдруг раздула звериные ноздри. — И чем вам не нравится, Миша, наш запах? Все люди живут с этим запахом, Миша. А если уж вы такой нежный, извольте: начните себя постепенно умащивать. Вон в древности, в Риме, какой-то философ ни разу не мылся!
— И как же он… это…
— А так же! — победно воскликнула Ольга Петровна. — Масла-то на что? Умастись — и не пахни!
Не пересказать всего, что узнал Мишаня Устинов в тот памятный, снежный и пасмурный вечер. Оказывается, проклятое мыло вместе с горячей водой блокирует выделительную функцию эпидермиса. Специально существующие на человеческой коже железы, которые находчивая Ольга Петровна сравнила со скафандром, сдираются от малейшего прикосновения мочалки, и внутрь человека тотчас проникают враждебные микрообъекты. Ну, много, короче, всего, очень много. В Мишане вскипела вся кровь. А можно ведь и избежать подлых тварей! Ты хочешь мне в печень залезть? Не залезешь! Вот день не помоюсь, и два не помоюсь, и год не помоюсь: куда ты залезешь? Собственное тело предстало воображению в виде государства, располагающего развитой военной техникой, но абсолютно разболтанного ввиду невежества и отсутствия у граждан чувства патриотизма. Ведь если ты любишь свое государство, зачем же его так скоблить да надраивать? Все только бы произвести впечатленье, пустить пыль в глаза! А ты о себе, о себе беспокойся! У них ЦРУ, пусть оно беспокоится!
Так решительно перевернуть свою жизнь, как это сделал Михаил Валерьянович Устинов, можно было только в условиях сельской местности. Мишаня остался у Ольги Петровны.
В июне приехала Катя с ребенком. Владимиров насторожился, увидев годовалую девочку с чужими чертами лица, а Зоя вдруг вся просияла. Он понял причину. Ей проще с чужими, чем с ним. В последнее время у него ничего не болело и даже слабости не было, только вечерами сильно кружилась голова и во всем теле начиналась какая-то неприятная дрожь, как будто внутри ослабели пружины.
Они доживали здесь третью неделю. По утрам Владимиров колол дрова или копался на грядке, однажды покрасил калитку. В сарае у фельдшерицы нашелся мужской велосипед, старый и заржавленный, но он так живо напомнил Владимирову молодость, что он даже погладил растрескавшееся клеенчатое седло. Несколько раз пытался вернуться к роману, садился за стол, но сочинять жизнь вдруг стало казаться каким-то кощунством. Ее нужно жить, эту жизнь, вот и все.
Он лежал на низенькой неудобной кушетке, которую Зоя с Катей выволокли утром на открытую веранду из чулана. Зоя сказала, что дом нагревается за день и ночью в нем нечем дышать. Она будет спать на веранде. Владимиров весь побелел: они ведь и так в разных комнатах спят.
— Тогда, может, лучше в лесу ночевать? — спросил он, не выдержав.
— В лесу, Юра, душно. Не легче, чем в комнате.
Она и не посмотрела в его сторону. Ответила тихо и сразу ушла. А Катя, смутившись, сказала, что завтра они уезжают обратно: муж в Петрозаводске соскучился. Владимиров лег на эту проклятую кушетку, похожую на таксу, закрыл глаза. Услышал, как стукнула калитка: куда-то ушли и ребенка забрали. Но что ему этот ребенок! Какой из него теперь «дедушка»?
Он поднял глаза, увидел счастливую и светлую синеву с разбросанными по ней облаками. Потом опустил глаза, заметил настил золотистых иголок, вдохнул в себя запах жасмина и сразу вскочил, взъерошил седые и редкие волосы…
Ужас смерти то накатывал, то отпускал. Стоило хоть что-то увидеть немного ярче — ну, вот, например, синеву в небесах, — вдохнуть посильнее, как тут же оно приходило: «Ты скоро умрешь. Не надейся».
Катя с дочкой на руках и Зоя с огромным букетом цветов, смеясь, подходили к калитке. У Кати морковно блестели колени под розовым ситцевым платьем. Владимиров вспомнил, что утром она вымыла весь дом, ползая по полу на коленях.
— Прошу Тебя, Господи: не отнимай.
На следующий день после обеда Катя уехала.
— Ну, папа, держись! — сказала она, обнявши его за костлявые плечи.
Он сразу подумал: «Последний раз вижу!»
А вслух прошептал:
— Приедешь зимой ко мне, на Рождество?
— Приеду, — смутившись, ответила Катя.
«Нет, ты не приедешь!» — подумал Владимиров.
Вечером они с Зоей пили чай на открытой веранде.
— Гофман звонил. Сказал, что во вторник заскочит, тебя навестит.
Владимиров дернулся:
— Это зачем?
Она подняла свои светлые брови:
— Что значит зачем? Вы ведь дружите вроде?
— Дружили, — поправил он мрачно.
Она обреченно вздохнула.
— Тебе тяжело со мной? — он засмеялся.
— Да, мне нелегко, — сказала она.
— А ты меня брось! — дико вскрикнул Владимиров. — Зачем я тебе? Здорового не полюбила, а тут уж тем более! Возьми да и брось! И никто не осудит!
— Осудит, — сказала она, помолчав.
— Кто? Он? — Владимиров показал на небо. — Да, может, Его там и нету? А, Зоя? Ты в жертву себя принесла, а там — пусто!
Она внимательно посмотрела на него поверх вазочки с вареньем, над которой кружилась оса, не решаясь сесть даже на краешек, но не улетая при этом, как будто была под каким-то гипнозом.
— Прошу тебя, Юра, молчи. А то наболтаешь сейчас… Стыдно будет.
Он вытащил флягу. Закинул голову и сделал несколько больших и судорожных глотков. Глаза его остановились:
— А мне теперь, Зоя, все можно. Теперь я совсем на особом счету.
— Мы все на особом счету, — возразила она.
Владимиров поклонился ей, не вставая из-за стола.
— Позволь я возьму для романа. Прекрасно ведь сказано! — он засмеялся, и смех его был неприятен и резок. — Какое название мне подарила! «Мы все на особом счету»! Да ведь оторвут же с руками-ногами!
— Ты хочешь, чтоб все тебя только жалели? — сказала она неприязненно. — Жалеют тебя! Успокойся. Жалеют!
— А я не просил! — Он с размаху ударил ладонью по вазочке с вареньем. Вазочка опрокинулась. — Нужны вы мне все, благодетели! К черту!
— Ты пьян, Юра. Выспись пойди.
— В могиле я высплюсь, — сказал он и через стол приблизил свое лицо к ее лицу. — Уж там-то я высплюсь!
И вдруг не удержался, дрожащим ртом поцеловал ее в губы:
— Прости. Не могу без тебя.
Он спал со снотворным. Под утро отвратительный сон разбудил его: во сне он увидел женщину с осыпавшимся от ветхости лицом, которая укладывала спать ребенка, странно маленького даже для новорожденного. Она стояла к нему спиной, и он видел только кусок ее осыпающейся щеки, видел, как трясутся ее руки, и все не понимал, отчего это ребенок не кричит и не плачет. Больше всего он, однако, боялся, что она обернется и он в ней узнает Варвару. С тех пор как они переехали на эту дачу, он старался не думать о Варваре и не вспоминать о ней. Это удавалось с трудом, потому что уверенность в том, что и его болезнь, и то, что не ладится с Зоей, — все это проделки Варвары, которая не хочет отпустить его, ревнует оттуда и делает все, чтобы он быстрей умер, — эта уверенность не отпускала его.
Еще там, в больнице, он понял все это. Понял потому, что его диагноз был точным повторением ее диагноза, и он не переставал чувствовать ее рядом. На даче она отступила. Владимирову казалось, что чем дальше находится от него могила Варвары, тем меньше у нее возможностей преследовать и добиваться его. Встал с бьющимся сердцем. Светало. Атласные звуки дождя, который, наверное, шел очень долго и только сейчас перестал, казались такими красивыми, чистыми, что он вдруг заслушался. Потом эти звуки погасли. Он тихо прошел на веранду. Несмотря на недавний дождь, было по-прежнему очень тепло и парило сильно. Весь сад был наполнен испарениями, запахами цветов и нерешительными шорохами. Она не спала, а лежала с широко открытыми глазами и думала о чем-то. Владимиров встал на колени и положил голову на ее живот под легким одеялом. Она провела рукой по его голове, вздохнула негромко.
— Не спится тебе? — прошептала она.
— Не спится, — ответил он глухо.
Не поднимая головы, нащупал ее руку, прижал к своим губам и поцеловал.
— А может, уехать мне, Юра? — спросила она. — Измучила я ведь тебя.
Он молчал.
— Ложись, полежи. Ты дрожишь, — сказала она и подвинулась к стене, освобождая ему место на кушетке.
Он затряс головой.
— Ух, как я противен тебе! Противен?
Опять она провела рукой по его затылку.
— Вспотел ты, — сказала она, — весь мокрый.
Владимиров почувствовал нарастающую дрожь в животе, которая поднималась и постепенно охватила все тело. Он лег рядом с Зоей и вжался в нее.
— Не знаю уж, как и помочь-то тебе, — шепнула она.
— Не этого нужно мне, Зоя.
— Да, верно, — сказала она. — Но так вышло. Наверное, я виновата во всем.
Обеими ладонями он обхватил ее лицо и развернул к себе.
— Да в чем виновата? Что я сумасшедший?
Она закрыла глаза. Слезы поползли по ее щекам.
— Ты хоть не молчи! — простонал Владимиров. — Ну, не молчи ты все время! Обмани меня! Скажи, что все будет хорошо! Скажи, что еще поживем и что я не умру, что мы с тобой вместе! Хоть что-нибудь, Зоя!
Он весь дрожал, пот градом лился по его лицу.
— Я никого так не любил, как тебя, слышишь ты! Я не то что чагу, я лес готов сгрызть, лишь бы жить! Ну, хоть обмани меня, милая!
В верхушках деревьев вдруг что-то залаяло, захлебнулось, заголосило так громко и страшно, что оба они подняли головы вверх. Потом раздался шум и треск крыльев. Прямо над ними пронеслось огромное, распластанное чудище, черное, стремительно удирающее куда-то, и спряталось в темных ветвях, и затихло.
— Что это? — спросил Владимиров.
— Да птица какая-то. Филин, наверное.
— А я думал, смерть. Проведать пришла.
Она вытерла его мокрое лицо краем пододеяльника. И тут он опять крепко обнял ее и начал быстро покрывать поцелуями ее шею, грудь, руки, плечи, ласкать ее грубо, и больно, и жадно, и видно было, что от прикосновений к ней в нем началось какое-то почти безумие и он не владеет собою. Она попыталась отодвинуться, но он только сжал ее крепче.
— Куда ты? Не смей! Ты жена мне! Терпи! — бормотал он, задыхаясь.
— Пусти! — прошептала она и тоже начала задыхаться, пытаясь оторвать от себя его руки. — Пусти, я сказала!
— Убью лучше, но не пущу!
И впился губами в сосок.
— Пусти, я сейчас закричу!

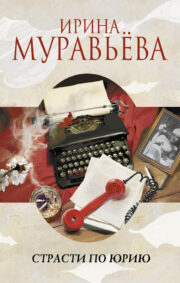
"Страсти по Юрию" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страсти по Юрию". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страсти по Юрию" друзьям в соцсетях.