Однако, когда утром земная женщина, молча жаждавшая счастья, взяла в руки письмо, написала адрес и запечатала его, сердце ее замерло. С минуту стояла она, в нерешительности держа его в руке, и спрашивала себя, не сорвать ли конверт и вновь прочитать. Быть может, неуверенно подумала она, кое-что могло бы быть лучше выражено. Пальцы ее механически скользнули по краям конверта, и она медленно его разорвала. Затем она вновь улеглась с письмом в постель. Ничего нельзя было изменить. Она снова напишет адрес и сегодня же пошлет его.
Одеваясь, она постояла перед своим изображением в зеркале; сердце ее сжималось тревогой, свойственной женщинам. Она выглядела бледной, старой, поблекшей, — подумала она; едва заметные морщинки появились около глаз; черты лица ее как будто сжались. Она слегка вздрогнула… наивно поспешила прикрыться волосами, чтобы избавить себя поскорее от необходимости видеть свое лицо.
— Какое это в конце концов имеет значение, — с горечью сказала она себе. — Когда письмо уйдет, кто на свете будет интересоваться тем, стара я на вид или молода?
Ей казалось, что жизнь ее прекратится с той минуты, когда письмо из рук ее попадет в почтовый ящик. Она хранила его при себе весь день, не в состоянии будучи сама наложить на себя руки. Ничтожное усилие, нужное для того, чтобы написать адрес на новом конверте, исчерпало всю имевшуюся у нее энергию, необходимую для выполнения подобного подвига. Не раз в течение дня она бросалась в постель, готовая разрыдаться. Она не может послать его. Это испортит его поездку. Она подождет, пока он вернется, пока она еще раз не увидит, как глаза его засветятся при взгляде на нее, и не услышит последний раз трепет его голоса, который больше слышать ей уже никогда не придется. Еще хоть один час счастья. А затем она отдаст ему письмо, и в наказанье за свое теперешнее малодушие будет стоять около него, пока он будет читать. Чувствуя себя страшно виноватой, но вместе с тем радуясь отсрочке, она написала ему то второе письмо, которое он получил. Другое, которое она собиралась послать, она хранила при себе в кармане, пока не загрязнился и не помялся конверт.
Это были невеселые дни. При встрече, однако, с обитателями пансиона она держала себя внешне спокойно и невозмутимо, показывая всем свое обычное лицо. Упреки по отношению к себе за свое малодушие прекратились. Она покорилась своей участи. Один взгляд на его лицо… а затем конец всему. Она знала тем самопознанием, которое дается годами одиночества и самообуздания, что перед исполнением последнего решения она не отступит.
Так как мысли ее таким образом были сосредоточены на трагической стороне ее отношений к Рейну, она не обращала никакого внимания на возможность сплетен. Ни одна из них не дошла до нее. Ее долго выдержанная сдержанность, личное превосходство, достоинство манер и поведения приобрели ей, если не любовь, то уважение пансиона. Даже фрау Шульц, которая ненавидела ее, находила невозможным позволить себе презрительный намек, который жег ее уста. Но госпожа Попеа, патентованная вольная особа пансиона, благодаря своей любезной и бесцеремонной манере выражаться, набралась однажды храбрости и вступила на эту скользкую почву.
— Боже мой, — сказала она, как бы призывая божество в помощь своему предприятию, — снова стало скучно. Я хотела бы, чтобы вернулся мистер Четвинд.
— Его отсутствие чувствуется, — ответила спокойно Екатерина, продолжая шить.
Госпожа Попеа явилась к ней с явным намерением уязвить. Это была ее манера заниматься шитьем.
— Я полагаю, что, если милый профессор почувствует себя хуже, он скоро вернется. Они относятся друг к другу, как женщины, эти два… персонажа из семейных романов. Я слышала, что профессору сегодня значительно хуже.
— Кто вам сказал это?
— Мисс Гревс. Она ухаживает за ним. Какая очаровательная девушка! Ее привязанность к нему трогательна. Это было бы совсем похоже на роман, если бы monsieur Рейн женился на ней. Он так красив.
Екатерина посмотрела на эту пухлую легкомысленную даму с невозмутимой серьезностью.
— Похоже на то, что вы интересуетесь романической стороной их отношений…
— Бог мой, да. Все, что касается любви, занимательно, особенно любви идиллической. Но вы, разве вас поразило бы, если бы по его возвращении они оказались помолвленными?
— Никогда не следует ничему удивляться, — процитировала Екатерина хладнокровно.
— Я как-то думала, что он питает нежные чувства к вам, — рискнула лукаво госпожа Попеа.
— О, — рассмеялась Екатерина, — вы знаете, что собой представляют мужчины… и нам, женщинам, никогда не следует передавать друг другу о своих впечатлениях. Если бы я сообщила вам те лестные замечания, какие мне приходилось слышать на ваш счет в течении последних двух недель, у вас бы голова вскружилась.
— Ах, кто говорил обо мне?
Екатерина поднялась, вынула шляпку из комода и, несколько демонстративно разворачивая вуаль, весело отозвалась:
— Я достаточно стара, чтобы научиться хранить тайны. Это мой единственный недостаток.
И госпожа Попеа, убедившись, что Екатерину трудно захватить врасплох с какой бы то ни было стороны, помешкала еще немного, а затем распрощалась. Екатерина, ясно читавшая в ее мыслях, грустно про себя улыбнулась. Но сообщение посетительницы о старом профессоре дало ей материал для размышлений. Если его отцу стало хуже, Рейн может вернуться немедленно. Мгновение она готова была чуть ли не пожелать, чтобы возвращение его отдалилось. Сердце ее больно сжималось, когда она представляла себе, что ее ждет.
Сообщение было правильное. Старик схватил серьезную простуду. Доктор с известной тревогой только что заявил это Фелиции. Она решила вызвать Рейна.
— Вы должны позволить мне телеграфировать в Шамони, — сказала она, стоя у постели профессора, в то время как он принимал лекарство. — Вам было бы приятно повидать его, не так ли?
Старик покачал головой.
— Пока еще нет.
— Почему?
— Было бы так жаль. Он там развлекается.
— Я думаю, что он не прочь вернуться, — заметила Фелиция.
Необычная для нее горечь тона поразила его. Он остановился с лекарством в руках, и глаза его заблестели. Взор его упал на девушку, и она покраснела.
— Я не думаю, что он уехал, чтобы развлечься, — сказала она, давая выражение смутным догадкам, которые за последние дни оформились в ее голове. — Притом, друзья его покинули… это не их вина, к несчастью… и он все время один. Он рад будет вернуться, если вы ему дадите знать.
Старик был смущен. Болезнь, кроме того, обессилила его.
— Так вы думаете, что это я его выпроводил, Фелиция? — спросил он.
Фелиция была достаточно женщиной, чтобы заметить его открытое признание. Теперь она была уверена, что разгадала. Все дело было в Екатерине. Поведение его, однако, поразило ее, как особенно нелепое каким оно и было в действительности. Она взяла пустую чашку из его рук, ловко оправила подушку и, когда он положил на нее свою голову, наклонилась над ним и шепнула:
— Он уехал по вашей просьбе… и по вашей же просьбе вернется. Позвольте мне телеграфировать ему.
— Но вы… дорогое дитя мое… как вы перенесете?
— Я? — с удивленным видом спросила Фелиция. — При чем тут я? О, мистер Четвинд! — прибавила она после минутного молчания. — Вам не следует обращать внимания на глупости, какие я вам когда-то говорила, я полагаю, что я тогда была еще ребенком. Мне стыдно за них. Я выросла, — мужественно поборола она себя, — и избавилась от этих глупых чувств. Я не хотела бы быть для него ничем иным, как другом… всегда… так что для меня вполне безразлично, что он будет здесь… если не считаться с тем, что я вижу в нем друга.
Старик высунул свою руку, взял ее и приложил к своей щеке.
— Раз вы знали… значит, совершенно никакой необходимости не было в его отъезде?
Фелиция невольно слегка вскрикнула и отдернула свою руку, когда это открытие обрушилось над нею. Кровь прилила к щекам и зашумела в ушах. Прежнее чувство стыда было ничто в сравнении с новым.
— Значит, он уехал, заметив, что я увлекаюсь им? — спросила она, потрясенная.
— Моя бедная, дорогая девочка, — нежно сказал старик, — мы это все делали для вашей же пользы.
Она долго стояла молча около него, тогда как он гладил ей руку. Наконец, она собралась с силами.
— Скажите ему, что все это недоразумение… что он поступил благородно, великодушно и деликатно… но что я улыбнулась, когда узнала об этом. Скажите ему, что я улыбнулась, не так ли, дорогой профессор? Смотрите, я улыбаюсь… совсем весело, как та Фелиция, которую вы портите своим баловством. А теперь, — освободила она осторожно свою руку, — я посылаю ему телеграмму. Мы вместе быстро поднимем вас с постели… одной меня недостаточно.
Она несколькими прикосновениями женской руки привела в порядок разбросанные на столе около него вещи и пошла выполнить по собственной инициативе взятое на себя поручение.
„Попросил бы вернуться возможно скорее
Четвинд"
Она сочинила эту телеграмму на пути в контору. Это освободило ее от необходимости думать о другом.
— Так, — сказала она себе, написав ее, — это встревожит его.
Больной между тем был в большом недоумении.
— Я вносил страшную путаницу в эту историю сначала до конца, — пробормотал он с усталым видом. — Однако, не думаю, чтобы все это в мгновение ока превратилось в пустяки. Надо поразмыслить об этом.
Глаза его закрылись. Он стал свои доводы облекать в силлогизм, но мозг его отказывался работать, и он уснул.
XII
Собирается гроза
Лакей, принесший телеграмму Фелиции в курительную комнату, застал Рейна расхаживающим взад и вперед, с трубкой во рту, в раздраженном состоянии человека, посаженного в тюрьму. Снаружи лил мелкий пронизывающий дождь, с окон капало, воздух был пропитан сыростью, и громадные туманные массы скрывали от взоров горы. Гиды предсказывали, что к полудню погода прояснится, но уже была половина двенадцатого, а небо с каждой минутой принимало все более ужасный вид. Гокмастер, зевая, курил сигару и просматривал потрепанный номер американского журнала, который какой-то соотечественник его завещал отелю.
Рейн с нетерпением схватил телеграмму, прочитал ее, сунул ее с возбуждением в карман и обратился к лакею.
— Тут имеется дилижанс в Клюзи… когда он отходит?
— В 12–15, monsieur.
— А поезд в Женеву?
— В 5-50.
— Хорошо. Закажите мне место в дилижансе и приготовьте счет.
Лакей поклонился и ушел.
— К сожалению, мне приходится отказаться от нашего уговора на сегодня, Гокмастер, — сказал Рейн американцу, который с некоторым любопытством следил за впечатлением, произведенным телеграммой, — мне необходимо немедленно ехать в Женеву.
— Мне это нравится, — возразил Гокмастер: — это ловко. В одну минуту решили вопрос. Именно так делают дела. Похоже на то, что я тоже поеду.
— Вам предстоит неприятная поездка, — сказал Рейн, встречая его предложение далеко не с свойственной ему любезностью.
— Это верно, — согласился тот невозмутимо, — я не рассчитываю, что солнце засияет потому только, что мне вздумалось путешествовать. Я человек скромный.
— Поторопитесь тогда, — заметил Рейн, видя, что американец остается при своем решении. — Пожалуй, вы поступаете разумно, удирая отсюда.
— Я это сделал бы уже несколько дней тому назад, если бы не вы. Вы как будто обладаете способностью сбросить с плеч человека гнет одиночества.
В его тоне чувствовалась какая-то благородная непосредственность и бесхитростная простота, которые задели слабое место в сердце Рейна.
— Это чертовски мило с вашей стороны, — сказал он с английской неуклюжей признательностью. — Вы тоже освободили меня от дурного настроения. Итак, едемте.
Несмотря на величайшие усилия Гокмастера поднять настроение, поездка в Клюзи совершалась в особенно унылой обстановке. Дождь беспрерывно лил, туман густо наседал на листья и ветви и, словно клочья шерсти, собирался массами между сосновыми стволами. Горы еле виднелись, смутные и неясные, уходя во мглу по мере того, как от них отдалялись. Арва при приближении к ней показывала свои несущиеся мутным потоком воды. Безлюдная местность за С.-Мартином походила на массу тины и грязных обломков, выступавших сквозь туман.
Кроме этого внешнего уныния, Рейна угнетала некоторая внутренняя тревога. Здоровье его отца всегда было неважно. Можно было опасаться серьезной болезни. Его глубокая привязанность к нему усиливала этот страх. Беспокоила и Екатерина. Сердце его рвалось к ней. Он закрыл глаза, чтобы не видеть расстилавшийся перед ним безнадежный ландшафт, и вызвал в памяти ее образ, как она стояла освещенная утренними лучами солнца в утренних цветах — бледно-желтом и голубом, с легким золотистым оттенком. Но почему она оставляла его так долго без вестей о себе? Вопрос, который обычно ставит себе влюбленный и на который он искал соответствующего ответа.

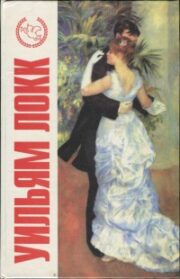
"Сумерки жизни" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сумерки жизни". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сумерки жизни" друзьям в соцсетях.