Когда мы вошли, все деревянные скамьи были уже заняты. Мужчины, женщины, дети и полицейские — все распределялись примерно поровну. Впрочем, нет, полицейских было больше, гораздо больше — словно кошек в рыбном ряду в базарный день. Они торчали по углам со шлемами в руках, прятались за ширмами, держа на коленях раскрытые записные книжки, потягивали чай, таращились на пациентов и постоянно интересовались «подробностями». Полицейские — неотъемлемый атрибут любого травмпункта, а в больнице Святого Суизина прекрасно знали: любого прохожего, имевшего неосторожность упасть и недостаточно быстро подняться, невесть откуда взявшиеся блюстители порядка тут же хватали под руки и радостно тащили к нам.
Я присел в углу за старинный стол, на котором разместились позеленевшая от времени медная чернильница и несколько стопок разноцветных формуляров. Работа моя была предельно проста. Я вручал один из бланков любому пациенту, который был, в моем представлении, вне профессиональной компетенции травматологов, и отправлял его с глаз долой в одно из многочисленных отделений нашей клиники. Поскольку единственным напутствием, которое я получил при выдаче диплома, была листовка с указаниями, как действовать при пожаре, поначалу я был несколько озабочен, чтобы не перепутать формуляры. По счастью, старый регистратор уже давно осознал, что ответственность за весь травмпункт лежит на нем, и тактично подсовывал мне нужную бумагу.
Поток пациентов не иссякал, вследствие чего всю неделю я был настолько занят, что даже не замечал Бингхэма. Общались мы всего один раз в день, на полуденной летучке в так называемой малой операционной, разместившейся в отгороженном углу травмпункта. Кроме хирургического стола из гальванической стали, эдуардианского зубоврачебного кресла, украшенного позолоченными геральдическими лилиями, и небольшого устройства для дачи наркоза, на котором было выведено: Собственность компании «Храп, хрип и удушье», малая операционная ничем похвастать не могла. Хотя скальпели, которыми мы пользовались, были бы с презрением выброшены хирургами, оперирующими в главном хирургическом театре, все же это была операционная, а нож притягивал нас с Бингхэмом ничуть не меньше, чем гильотина — членов Конвента.
Однако вскоре я заметил, что к Бингхэму неизменно выстраиваются более длинные очереди на операцию, чем ко мне. Поскольку пациентов мы с ним принимали по очереди, я поначалу завидовал его везению, пока не узнал: пройдоха останавливал на улице прохожих с фурункулами, бородавками, родинками и прочими многообещающими изъянами, вручал им свою визитную карточку и просил днем заглянуть в наш травмпункт, но обращаться именно к нему.
Столь нетоварищеское поведение так меня раздосадовало, что в одно прекрасное утро, воспользовавшись временной отлучкой Бингхэма, я сам принял одного из его столь хитроумно приманенных пациентов. И вот я уже наполовину удалил под местной анестезией интересное жировое разрастание в носу, когда послышался дробный топот и в малую операционную вихрем влетел Бингхэм.
— Стой! — завопил он. — Это, черт побери, мой нос!
— Вот как? — изумленно спросил я, глядя на него поверх маски. — А я думал, ты ушел обедать.
— Обедать! — взорвался Бингхэм. — Где это видано, чтобы я обедал в приемные часы? Если хочешь знать, я присутствовал при вскрытии — совершенно потрясный разрыв почки — и обсуждал детали с профом.
— Ничего, у тебя еще много народу, — миролюбиво произнес я, залезая в носовую пазуху пинцетом. — Я уже через пару минут заканчиваю.
— Не в этом суть, — сварливо возразил Бингхэм. — Главное, что меня особенно интересовал именно этот нос. Я, можно сказать, все утро о нем мечтал, предвкушая, как займусь им. Словом, должен тебе сказать, старина, что чертовски неэтично перехватывать такой случай у своего коллеги.
— А этично, по-твоему, прочесывать улицы Лондона, зазывая клиентуру?
Бингхэм покрылся краской. Помолчав несколько секунд, он процедил:
— Не нравится мне твой тон, старина.
— А мне начхать, нравится он тебе или нет!
Тем временем мой пациент, не на шутку встревоженный нашей перепалкой, напомнил о своем существовании, издав трубный звук, похожий на ржание издыхающей лошади.
— Я доложу о твоем поведении профу, — прошипел Бингхэм и убрался вон.
Он быстро отомстил мне, посылая к моему столу всех старых хроников. Люди эти были настоящим живым укором на совести Святого Суизина, и избавиться от них не представлялось возможным. Появлялись они с завидной регулярностью, имея при себе пухлые карточки, на которых рукой пары дюжин хирургов было накарябано «Повт. осм.». Это сокращение давало им право на дополнительную склянку микстуры, первоначальное назначение которой было уже давно забыто, а первый выписавший се врач, вероятно, давно покоился в могиле.
В то утро вереница старых хроников казалась нескончаемой. К двум часам их осталось еще около дюжины; я не успел пообедать и пребывал в дурном настроении. И вдруг я заметил какого-то ловкого старикашку с перевязанным окровавленным бинтом пальцем, пытавшегося пролезть ко мне без очереди.
Он был облачен в фетровую шляпу, ветхий черный пиджак и полосатые брюки. Поначалу ловчила пристроился на самой дальней скамье, бросая вороватые взгляды на очередь, но уже скоро пересел поближе. Подобных типов я знал как облупленных, а профессор дал нам на их счет самые жесткие указания.
— Одну минуточку, миссис, — сказал я тучной женщине, жаловавшейся на мозоли, после чего встал и приблизился к вредному старикану. — В чем дело? — суровым тоном осведомился я. — Что вы себе позволяете?
Старый хрыч испуганно встрепенулся.
— Я все видел, — продолжал я, распаляясь все больше и больше. — Думаете, вы самый умный? Пролезли украдкой и считаете, вам это сойдет с рук? От этой царапины вы не умрете, а здесь много людей, которым помощь необходима куда больше, чем вам. И вообще, где ваша карта?
— Карта? Простите, пожалуйста, — проблеял он, — но я не знаю, какую карту вы имеете в виду.
— Вы что, папаша, читать не умеете? — развел руками я. — За дверями висит плакат размером с Триумфальную арку. Там четко и ясно написано, что все пациенты должны получить у регистратора медицинскую карту. Так что валите отсюда и получите ее.
— Простите, но я не знал…
— Шевелите ногами, папаша, — отмахнулся я и вернулся к толстушке уже в приподнятом настроении.
Однако не прошло и нескольких минут, как назойливый старикашка возвратился, держа в руке медицинскую карту. На сей раз он сразу принялся слоняться вокруг меня. С минуту я делал вид, что не замечаю его, но в конце концов не выдержал.
— Какого дьявола вам теперь-то еще надо? — взорвался я. — Почему вы не можете спокойно посидеть в очереди, как все остальные?
— Видите ли, я очень спешу…
Я чуть не задохнулся от негодования.
— Он спешит, видите ли! А остальные, значит, по-вашему, не спешат? Я ведь, между прочим, тоже спешу. Сядьте в самый конец очереди.
— Может быть, мне стоит объяснить вам…
— Ваши объяснения меня не интересуют, — отрезал я. — Если вы не сядете на место, я попрошу полицейского усадить вас силой.
У старикана отвалилась челюсть. Я мысленно поздравил себя — поделом нахалу.
— Ну что вы, доктор, — выдавил он, — разве можно так обращаться с приличными…
— Хватит препираться! — оборвал я. — И вообще, снимите свою дурацкую шляпу!
— Что здесь происходит? — прогремел внезапно сзади до боли знакомый голос.
Резко развернувшись, я очутился лицом к лицу с профессором. Прежде мне едва удавалось обменяться с ним даже парой слов: он был слишком занят академическими проблемами, чтобы снисходить до малой операционной. Длинный нос и выдающийся подбородок делали профессора похожим на мистера Панча[3]. Лишь один раз его видели улыбающимся — в день, когда сэр Ланселот Шпротт прикатил в клинику на новехоньком лиловом «роллс-ройсе», который туг же, на глазах у всех студентов, был буквально расплющен каретой «скорой помощи».
— Этот пациент, сэр… — начал было я.
— Что-нибудь не так, Чарлз? — пробасил профессор, сдвинув брови.
— Да, в некотором роде, — кивнул старикан. — Этот молодой человек очень груб со мной.
Профессор взглянул на меня, как на лабораторную крысу, подцепившую необычную болезнь.
— По-видимому, мне стоит представить вам своего друга, судью Хопкрофта, — медленно, с расстановкой проговорил он. — Обедая со мной, он по неосторожности порезал палец. Я как раз собирал инструменты, чтобы зашить его рану.
Я молча уставился на него. Пол подо мной закачался и стал уходить из-под ног.
— Как, говорите, ваша фамилия? — спросил профессор. — На комиссии я плохо ее расслышал.
— Гордон, сэр, — прохрипел я.
— Гордон, значит? — Профессор несколько раз укоризненно помотал головой.
— Как-как? — переспросил судья Хопкрофт, в упор уставившись на меня.
Я повторил.
— Вот как, значит, Гордон, — зловеще произнес он. — Что ж, постараюсь запомнить.
Когда они скрылись за ширмой, мне показалось, что я не только не задержусь на этом месте, но при первом же столкновении с законом попаду в Дартмур[4], где и проведу остаток своих дней.
Глава 2
В течение нескольких последующих недель я с равной тревогой вчитывался в резолюции, которые накладывал профессор на карточки пациентов с установленными мной диагнозами, и в заключительные речи судьи Хопкрофта при вынесении приговоров. Бингхэм теперь всякий раз нагло ухмылялся в разговорах со мной, став вконец невыносимым. Он был явной жертвой особо злокачественной формы заболевания, которое в наших кругах называли дипломатозом и которое проявлялось одновременно в мании величия и полнейшем склерозе по отношению к самым недавним событиям. Избавившись от куцей студенческой тужурки, он теперь неизменно расхаживал в долгополом белом пиджаке и никогда не расставался со стетоскопом, дужки которого горделиво торчали у него на шее, словно рога забияки-оленя. По клинике Бингхэм передвигался исключительно торопливой, несколько дерганой поступью, давая всем понять: его ждут срочные консультации и безнадежные больные; с пациентами, их родственниками и практикантами он разговаривал торжественным и усталым голосом, как врач викторианской эпохи, сообщавший трагичную весть; наконец, тяжкий груз давившей на него ответственности не позволял Бингхэму узнавать своих бывших и менее удачливых сокурсников и уж тем более не оставлял времени здороваться с ними.
Но больше всего меня бесило поведение Бингхэма в лифте. Помимо широкого, просторного лифта, в котором перевозили пациентов на носилках, в больнице Святого Суизина также имелся допотопный, тесный и скрипучий, подъемник для персонала. Обычно на нем висела табличка «НЕ РАБОТАЕТ», и студентам пользоваться им возбранялось. Так вот Бингхэм обзавелся дурацкой привычкой разъезжать на этом лифте, никогда не забывая вызывать его, когда проводил обход клиники с группой студентов. Затем сам поднимался на верхний этаж, где и поджидал раскрасневшуюся и запыхавшуюся толпу.
— Страшно удобная штуковина, — как-то заметил он мне. — Просто не понимаю, как мы раньше без него обходились.
Впрочем, общались мы с ним довольно редко: либо лондонские пешеходы и водители вконец утратили остатки осторожности, либо я стал менее расторопным. Как бы то ни было, поток пациентов не иссякал теперь до позднего вечера, частенько не оставляя мне времени даже для обеда.
— Послушай, старина, — обратился ко мне Бингхэм однажды вечером, когда прием уже заканчивался. — Как насчет того, чтобы забежать в палаты и взглянуть на кое-какие хвори? Там рядышком лежат совершенно изум пиелонефрит и ретроперитониальный абсцесс. Спорим на полфунта, что ты не определишь, кто из них кто?
— Нет, спасибо, — покачал головой я. — Я немного устал смотреть, как страдают мои братья по разуму. И вообще собираюсь в паб перехватить пинту пивка.
— Ты, конечно, извини, старина, но это не лучший способ пробиться в аспи.
— В данную минуту мне глубоко наплевать на твою аспи, — в сердцах выпалил я. — У меня ноги гудят, башка раскалывается, я голоден как волк и хочу выпить.
— Да, старина, наше травмотделение не всякому по зубам. Я сам жду не дождусь следующего месяца, чтобы вырваться отсюда и приступить к нормальным операциям.
Я смерил его вызывающим взглядом:
— Хочу напомнить, что место старшего ассистента получит только один из нас.
— Конечно, старина, — ухмыльнулся Бингхэм. — Я чуть было не забыл. Пусть победит сильнейший и все такое. Да?
— Совершенно верно, Бингхэм.
По прошествии еще двух недель я уже начал надеяться, что наше сверхзанятое светило забыло историю с судьей Хопкрофтом. Однако в один прекрасный день профессор появился в нашем травмпункте. Остановившись перед моим столом, он посмотрел на меня, как на заспиртованную ящерицу, поднес к моему носу какую-то медицинскую карту и спросил:

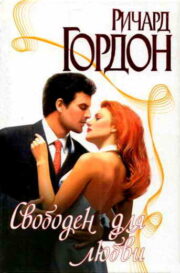
"Свободен для любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Свободен для любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Свободен для любви" друзьям в соцсетях.