— Я уже давно замечаю, что ты вернулся к нам совсем другим, — заговорил Дернбург. — До известной степени эта перемена была неизбежна; ведь ты пробыл три года в Берлине и два года в Англии, твой кругозор расширился; я сам послал тебя из Оденсберга для того, чтобы ты посмотрел мир и научился правильно судить о нем; но теперь до меня дошли кое-какие слухи, и я желал бы получить от тебя объяснение по этому поводу. Правда ли, что ты постоянно водишь компанию с социал-демократами, открыто признаешь себя одним из них и состоишь в близких отношениях с их вождем Ландсфельдом? Да или нет?
— Да, — просто ответил Эгберт.
— Значит, все правда! И ты так спокойно говоришь это мне в лицо?
— Неужели же я должен отрицать истину?
— Когда ты стал членом их партии?
— Четыре года тому назад.
— Значит, в Берлине; я так и думал. Как это ты позволил обойти себя? Правда, тогда ты был еще очень молод и неопытен, но все-таки я считал тебя умнее.
Видно было, что тон допроса оскорблял Эгберта; он ответил спокойно, но с резким ударением на словах:
— Это — ваше мнение, господин Дернбург. Мне очень жаль, но мои взгляды отличаются от ваших.
— И мне нет до них никакого дела, так хочешь ты сказать? Ошибаешься! Мне есть дело до политических воззрений людей, служащих у меня; только я не имею обыкновения спорить с ними По этому поводу, а просто увольняю их. Кому не нравится здесь, в Оденсберге, пусть уходит, я никого не держу; но тот, кто остается, должен подчиниться безоговорочно. Или то или другое; третьего не дано.
— В таком случае, придется, конечно же, выбрать первое, — холодно сказал Эгберт.
— Тебе так легко бросить нас?
Молодой человек мрачно потупился.
— Я у вас в долгу, я знаю это.
— Ты вовсе не в долгу у меня! Я дал тебе воспитание и образование, зато ты спас мне Эриха; без тебя я лишился бы единственного сына; мы квиты, если уж тебе угодно вести разговор в чисто деловом русле. Если ты предпочитаешь такой взгляд на наши отношения, скажи прямо, и дело с концом!
— Вы несправедливы ко мне, — сказал Рунек, борясь с волнением, — мне было бы трудно смотреть на вас с такой точки зрения.
— Ну, так что же принуждает тебя к этому? Ничего, кроме сумасбродных идей, в которых ты запутался! Или, ты думаешь, мне легко будет потерять тебя? Образумься, Эгберт! С тобой говорит не начальник; ты столько лет был мне почти сыном!
Молодой человек упрямо поднял голову и ответил с сознанием собственного достоинства:
— Ну, уж раз я «запутался» в своих «сумасбродных идеях», значит, так при них и останусь. Дети всегда со временем становятся взрослыми, и я стал взрослым именно тогда, когда жил вдали от вас; я не могу уже вернуться к жизни лишенного самостоятельности мальчика. Я добросовестно исполню все, что вы потребуете от меня как от инженера, но слепо подчиняться вам, как вы заставляете всех ваших служащих, я не могу и не хочу, мне нужна свобода!
— А у меня, значит, ты не пользуешься свободой?
— Нет, — твердо ответил Эгберт. — Вы отец для своих подчиненных, пока они рабски повинуются вам, но зато в Оденсберге знают только один закон — вашу волю. Директор покоряется вам так же беспрекословно, как последний рудокоп; собственного, независимого образа мыслей на ваших заводах нет и никогда не будет, пока вы ими руководите.
— Нечего сказать, приятные комплименты ты заставляешь меня выслушивать! — рассердился Дернбург. — Ты прямо называешь меня тираном. Правда, ты всегда знал, что можешь позволить себе по отношению ко мне гораздо больше, чем все остальные, взятые вместе, да нередко и делал это; ты никогда не отказывался от собственной воли, да и я не требовал этого от тебя, потому что… Впрочем об этом мы поговорим после. «Свобода!». Это опять один из ваших лозунгов! По-вашему, надо все уничтожить, все разрушить для того, чтобы «свободно» идти по дороге… к погибели! Несмотря на свою молодость, ты, говорят, играешь весьма значительную роль в вашей «партии». Она не скрывает, что возлагает на тебя величайшие надежды и видит в тебе будущего вождя. Надо признаться, эти господа далеко не глупы и хорошо знают, с кем имеют дело; у них нет тебе замены.
— Господин Дернбург! — воскликнул Рунек. — Вы считаете меня способным на низкие расчеты?
— Нет, но я считаю тебя честолюбивым, — хладнокровно ответил старик. — Может быть, ты и сам еще не знаешь, что именно погнало тебя в ряды социал-демократов, так я скажу тебе это. Быть толковым, добросовестным инженером и мало-помалу добиться должности главного инженера, это почетная карьера, но она чересчур скромна и незаметна для такой натуры, как твоя; руководить тысячами людей, одним словом, одним знаком направлять их, куда вздумается, греметь в рейхстаге, произнося воспламеняющие речи, к которым прислушивается вся страна, быть поднятым на щит как вождь, это — другое дело, это — могущество; именно это и привлекает тебя. Не возражай, Эгберт! Мой опыт позволяет мне видеть дальше тебя; мы поговорим об этом опять через десять дет.
Рунек стоял неподвижно, с нахмуренным лбом и сжатыми губами и не отвечал ни слова.
— Ну, мой Оденсберг вам придется пока еще оставить в покое, — продолжал Дернбург. — Здесь я хозяин и не потерплю вмешательства в мою власть, ни открытого, ни тайного; так и скажи своим товарищам, если они еще не знают этого. Однако интересно было бы услышать, что, собственно, ты думал, возвращаясь сюда с такими взглядами? Ведь ты знаешь меня! Почему ты не остался в Англии или в Берлине и не объявил мне войны оттуда?
Эгберт опять ничего не ответил, но опустил глаза, и темный румянец медленно залил его лицо до самых волос.
Дернбург видел это; его лицо прояснилось, на нем появилось даже что-то вроде легкой улыбки, и он продолжал более мягким тоном:
— Допустим, что причиной была привязанность ко мне и моей семье, ведь Эрих и Майя для тебя почти брат и сестра. Прежде чем ты действительно уйдешь от нас и будешь для нас потерян, ты должен узнать, от чего ты отказываешься и какого будущего лишаешь сам себя.
Рунек вопросительно посмотрел на него, он не мог понять, куда целит Дернбург.
— Что вы хотите сказать?
— Здоровье Эриха по-прежнему серьезно беспокоит меня. Хотя пребывание на юге устранило смертельную опасность, но не принесло ему полного выздоровления; он всегда будет вынужден избегать утомления, никогда не будет в состоянии трудиться в настоящем смысле этого слова; кроме того, у него мягкий, податливый характер. Я хорошо понимаю, что он не дорос до положения, которое ожидает его в будущем, а между тем мне хотелось бы быть уверенным, что, когда я закрою глаза, созданное мной дело перейдет в надежные руки. Номинально[4] моим преемником будет Эрих, фактически им должен быть другой… и я рассчитывал на тебя, Эгберт.
— На меня? Я должен?..
— Управлять Оденсбергом, когда меня не станет, — договорил за него Дернбург. — Из всех людей, прошедших мою школу, только один способен это сделать, и этот один хочет теперь перевернуть вверх дном все мои планы на будущее. Майя — еще почти дитя; я не могу предвидеть, будет ли ее муж годиться Для такого дела, как мое, хотя мне очень хотелось бы этого. Я не из тех глупцов, которые покупают для своих дочерей графские да баронские титулы; мне нужен только человек, все равно, какое бы положение он ни занимал, из какой бы среды ни вышел, предполагая, разумеется, что моя дочь почувствует к нему склонность.
В словах Дернбурга крылось ослепительно блестящее обещание, полувысказанное, но достаточно ясное, и молодой человек как нельзя лучше понял его; его губы дрожали, он порывисто сделал несколько шагов к своему воспитателю и произнес сдавленным голосом:
— Господин Дернбург… прогоните меня!
— Нет, мой мальчик, я не сделаю этого; сначала мы еще раз попытаемся договориться. А пока ты возьмешься за осушение Радефельда, и я предоставлю тебе достаточную самостоятельность в этом деле; если мы сумеем организовать всех своих рабочих, то к осени, вероятно, работа будет закончена. Согласен?
Эгберт явно боролся с собой; прошло несколько секунд, прежде чем он тихо ответил:
— Это — риск… для нас обоих.
— Положим, но я хочу рискнуть. Мне кажется, бороться за светлое будущее народа вы всегда успеете, так что мы можем отсрочить окончательное решение на месяц-другой, а пока мы с тобой заключим перемирие. А теперь иди к Эриху, я уверен, что его мучает самый ужасный страх за исход нашего разговора, да и Майя тоже будет рада видеть тебя. Ты останешься у нас обедать и уедешь только вечером. По рукам!
Он протянул Рунеку руку, и тот молча подал ему свою. Было видно, что на него повлияла доброта этого всегда строгого и непреклонного человека; но еще больше подействовало признание старика в том, насколько он дорог ему. Дернбург нашел самое действенное, может быть, даже единственное средство, которое могло иметь успех в данном случае; он не требовал ни обещания, ни жертвы, а выказал неограниченное доверие своему упрямому воспитаннику и этим обезоружил его.
4
Дернбургские металлургические заводы принадлежали к числу наибольших предприятий и пользовались всемирной известностью. Оденсберг был расположен в одной из лесистых долин горного хребта, главное богатство которого состояло в неистощимых рудниках; полвека тому назад отец теперешнего владельца Оденсберга основал здесь небольшой завод, который постепенно сильно разросся, но такие грандиозные размеры он принял лишь при сыне, который, скупив все рудники и заводы в окрестностях, привлек к себе всю рабочую силу и так расширил производство, что стал диктовать свою волю промышленникам всей провинции.
Надо было обладать необыкновенным умом и энергией, чтобы создать такое предприятие и вести его, но Дернбургу эта задача оказалась по плечу. У него было множество инженеров, техников и других служащих, и все знали, что всякие сколько-нибудь важные распоряжения исходят от самого патрона; его считали строгим и непреклонным, но справедливым человеком, который, осознавая свое могущество, прекрасно понимает и свои обязанности.
Условия, которые он создал для своих рабочих, вполне соответствовали прекрасному состоянию производства и всеми признавались образцовыми. Создать их мог только человек, располагающий миллионами и не скупящийся на расходы, когда дело касалось блага его подчиненных; но взамен Дернбург требовал абсолютной покорности и твердо выдерживал натиск веяний нового времени, в основе которых была борьба за политические свободы каждого человека. В Оденсберге не знали, что такое выступление рабочих против хозяина и забастовки, постоянно происходившие в других промышленных городах; всем было известно, что патрона не переубедить; к тому же, увольняясь с его предприятия, рабочий лишал себя и свою семью обеспеченной жизни, поэтому никакие усилия социал-демократов не находили в Оденсберге благоприятной почвы.
И у этого человека, олицетворения силы и характера, был всего один сын, за жизнь которого он постоянно опасался. Эрих с детства был слабым и болезненным ребенком, а падение в воду вызвало продолжительную и опасную болезнь; докторам удалось спасти ему жизнь, но полного выздоровления они не добились, а два года назад у него пошла горлом кровь, вследствие чего было необходимо продолжительное пребывание на юге.
Прекрасные отношения, которые сложились между семьей молодого наследника и его спасителем, всегда были предметом не только удивления, но и зависти в Оденсберге. Эгберт Рунек, сын одного из рабочих завода, провел детство в кругу своей семьи, и если научился большему, чем его сверстники, то этим был обязан прекрасной школе, которую Дернбург открыл для детей своих рабочих. Способный мальчик и раньше уже обратил на себя внимание патрона неутомимостью и прилежанием; когда же Эгберт спас его единственного сына, его будущее было предрешено: он стал учиться вместе с Эрихом, в доме патрона на него смотрели почти как на члена семьи, и, наконец, Дернбург отправил его для дальнейшего образования в Берлин.
Господский дом был построен на некотором расстоянии от заводов на холме. Это было красивое строение с широкой террасой, длинными рядами окон и большим балконом над входной дверью; далеко раскинувшийся парк захватывал часть горного леса. Эта прекрасная, внушительная усадьба, без сомнения, имела право на название замка, но Дернбург не хотел этого, а потому ее называли господским домом.
Семья Дернбурга проводила здесь большую часть года, хотя у него было несколько имений, расположенных в более живописных местах, и дом в Берлине. Он появлялся в столице только тогда, когда этого требовали обязанности члена рейхстага, а в имения заезжал лишь на короткое время, ведь Оденсберг постоянно нуждался в хозяйском глазе и был особенно дорог ему как его собственное произведение; здесь он чувствовал себя неограниченным хозяином, здесь мог получить громадную прибыль или громадный убыток, а потому Оденсберг стал его постоянным местопребыванием.

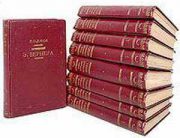
"Своей дорогой" отзывы
Отзывы читателей о книге "Своей дорогой". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Своей дорогой" друзьям в соцсетях.